Должен сказать, что, будучи владельцем пресловутого двухтомника, особо вчитываться не собирался: текстологические различия — вещь в большинстве случаев интересная только для текстологов, а корпусы обоих изданий в основном совпадают. К сожалению, за прошедшие годы никаких залежей рукописей Введенского не открылось, что, конечно, бесконечно печально. Особо острую фантомную боль производит роман «Убийцы вы дураки», но не будем о том, чего нет, а будем о том, чего есть.
Я собирался только проглядеть аппарат и приложения — чтобы составить собственное мнение, ибо уж очень наезжают на Анну Герасимову ревнители филологизма. Это меня удивило — у меня есть ее Вагинов, выпущенный некогда в томском «Водолее», и, на мой вкус, это практически идеальное издание. «Только проглядеть», конечно, не получилось — и самое главное, что могу сказать после суточного чтения: я очень рад, что эта книжка у меня есть и вообще, что она есть.
Чего многие не понимают или не желают понимать — это, собственно, и не книжка никакая, а своего рода базовая библиотека по Введенскому, составленная из необходимых с точки зрения составителя текстов. Совершенно необязательно быть полностью согласным с этим выбором (я бы, к примеру, очень легко обошелся без эссея С. Бирюкова с плоскостями вроде Тут «кости» рифмуются с «гости», это рифма, вероятно, идущая из фольклора, следовательно, архетипическая — бессмыслица, да не та!), но главное: для начала нужно понять конволютную природу «ВСЕГО». Здесь собрано, конечно, не всё по Введенскому и, конечно, не все достаточное по Введенскому, но здесь, несомненно, содержится необходимый набор текстов и сведений — с некоторыми излишествами, как известно, тоже необходимыми. Т. е. не специализированный на обериутах читатель получает вместе с корпусом произведений Александра Введенского и набор текстов, которые он, в сущности, должен был бы немедленно пойти повсюду разыскивать, чтобы оказаться в состоянии этот корпус хоть до какой-то степени адекватно прочитать. Здесь — и я считаю эту идею чрезвычайно правильной со стороны Анны Герасимовой — невыполнимая повинность эта с него одним движением снимается.
«Разговоры» Липавского, «Возражения» Заболоцкого и статьи Якова Друскина являются, как известно, основополагающими текстами, без которых не может обойтись никакой читатель, желающий что-то понять в поэтике Введенского (и не только Введенского, но и Хармса). Прекрасная деловая статья А. Дмитренко о ранних годах Введенского и летопись его жизни и творчества А. Крусанова, а также воспоминания пасынка Введенского Бориса Викторова с включенными в них материалами следственного дела и послевоенными письмами ленинградских друзей Введенского его вдове, а также переписка Введенского и Хармса предоставляют собой необходимую биографическую основу для представления о его личности и жизни.
Отдельно нужно сказать, что таким образом составителю удалось спасти из небытия погребенные малотиражностью и/или удаленностью места издания книги и материалы. Допустим, лично у меня есть переписка Хармса и Введенского, в свое время я ее заказал из Парижа, или, например, крусановская летопись в белградском сборнике материалов (я о нем как-то даже писал). Но теперь они — и не только они! — сохранены в московском издании, пошедшем уже вторым трехтысячным тиражом, и работают сразу и непосредственно «на текст». Это очень большое дело, как мне кажется.
О воспоминаниях Викторова, кстати, должен заметить, что они и сами по себе довольно любопытны. Это такая раздраженная харьковская проза, имеющая довольно много интонационно-стилистических сходств с тем, что в литературном смысле производится в этом городе, по всей видимости, относящемся к тем немногочисленным и непонятно по каким причинам возникающим городам, обладающим чем-то вроде собственного сознания, которое имеет обыкновение вы(с)казываться через сочинения происходящих из них писателей. Таков, например Петербург. А Москва не такова. Судя по всему, не таков и Киев. В конце XIX-го — начале ХХ-го вв. Одесса была таким сознанием, т. е. живым существом, но, кажется, померла. А Харьков вот жив — ну, он еще молод: родился в таком качестве совсем недавно, судя по всему только после войны — т. е. когда Одесса померла.
Но это отступление. Возвращаясь к Борису Викторову, хотел бы отметить два существенных, с моей точки зрения, обстоятельства:
1. По его тексту очевидно, что он вовсе не бескультурный и недалекий советский инженер, великого своего отчима, в сущности, и не ценящий и превыше всего ставящий Евтушенку, как его часто изображают, а человек сложный, путаный и разный. Но стихи Введенского любящий и память о нем бережно хранящий. Ну, не без инженерства и, вероятно, не без Евтушенки, но — что очень ценно — без попыток навязать эту Евтушенку Введенскому, без попыток изобразить, что он что-то понимает там, где ничего не понимает.
2. Очевидно также, что он не только формальный «законный наследник», но и по сути, «по справедливости» наследник единственного отца, который у него был. И, соответственно, имел не только юридическое, но и моральное право отказать нахамившему ему Мейлаху. Надо сказать, очень показательными является ирония по поводу чувствительности харьковского наследника: «…издание Мейлаха не было своевременно прислано харьковским родным поэта, издатель не вполне аккуратно обращался с рукописями и т. п.» — пишет, например, в недавней рецензии Кирилл Корчагин. Такое ощущение, что нынче как-то уж очень легко принято прощать обиды, особенно нанесенные другим людям, особенно если обижающий коллективным сознанием произведен в good guys. Я бы лично не то что за половину, а даже за одно-единственное «не вполне аккуратное обращение с рукописями» такого рода навсегда вычеркнул бы человека из числа знакомых. И заодно, если уж об этом зашла речь: Кирилл Корчагин пишет: «К выходу «нового Введенского» история с правами прояснилась: оказалось, что никакому Глоцеру они не принадлежали, но последний, обладая юридическим образованием, при поддержке пасынка Введенского Б. А. Викторова крайне эффективно эти права себе присваивал, в том числе в судебном порядке, что, конечно, характеризует отечественные нравы ничуть не меньше, чем характер самого Глоцера» Не знаю, почему у Кирилла Корчагина не было так долго «ясности с правами» (скорее у него нет ясности с юридическими понятиями) — с самого начала, с самой середины 90-х гг., было известно, что Глоцер уполномочен наследниками. Никаких прав себе Глоцер не присваивал, а поступал в соответствии с правами, предоставленными ему доверенностью наследника, что, собственно, ясно и из упомянутого отчета Мейлаха, в котором он, конечно, бескорыстный ангел, Глоцер — злодей, а Викторов — дурак. Кстати, тот факт, что в России признаны законные юридические права наследника-иностранца и, соответственно, его доверенного лица, характеризует российские суды и «нравы» с самой благоприятной, даже, возможно, нереалистически благоприятной стороны. Совсем другая история с правами на Хармса, присужденными американским, а затем немецким судом живущему в Америке сыну Марины Дурново. Тот никакого отношения к Хармсу не имел, Дурново в права наследования не вступала, да и, насколько известно, отказывалась от всяких прав. Вот если российский суд тоже признал эти права Вышеславцева — то вот это как раз «характеризует отечественные нравы»: типичное низкопоклонство перед Западом. А насчет Введенского и всей истории с Глоцером нужно отдавать себе отчет в одной вещи: в этой истории, как я теперь впервые отчетливо понял, все же виноват один-единственный человек — Михаил Мейлах, обидевший Бориса Викторова (даже если он такой, каким его Мейлах описывает) и его мать, вдову Введенского, которая так и не подержала в руках ни одного подготовленного Мейлахом издания своего мужа. А Глоцер их, видимо, не оскорблял. Если бы и Мейлах их не оскорблял, хотя бы неприсылкой изданий и неаккуратным обращением с рукописями, права никогда не попали бы в единоличное распоряжение Глоцера, каким бы он ни был и как бы ни интриговал. Персону Глоцера обсуждать не будем.
Что же касается Герасимовой, ее статьи и комментариев, то могу сказать, что претензии к ним не очень понятные. Статья мне понравилась: в ней есть собственные представления о природе поэтики Введенского, о том как это работает и как это можно понимать (что редко встречается). Если бы Кирилл, например, тот же Корчагин внимательнее прочел статью и, может быть, другие тексты Герасимовой об обериутах, то заметил бы, вероятно, что понятием «смешное» она пользуется не в бытовом, а во вводимом, почти терминологичном смысле, необходимом для различения с «комическим». Но, кажется, она теперь у добрых людей заместо почившего Глоцера bad guy, так что тут уже не до подробностей, конечно.
Комментарии, на мой взгляд (хотя я, конечно, не филолог и не притворяюсь), более чем корректные, а для неакадемического издания, может быть, иногда даже излишне академические в смысле вариантов чтения и написания, а также вполне обильного привлечения комментариев предшественников — того же Мейлаха, Александрова, да и Якова Друскина. Ну а то, что постоянно звучит живой голос комментатора — с отступлениями, личными высказываниями, иногда просто шутками, — так это мне скорее нравится. От некоторых мест получил отдельное литературное удовольствие, между прочим. От такого например:
Но верблюд сказал дурак — в ПСС: но верблюд сказал: дурак; у А. Александрова: Но верблюд, — сказал дурак, из чего следует, что расставлять знаки препинания в чужом тексте дело неблагодарное.
Воистину так!
Очень опять же рекомендую статью Герасимовой 1994 г., помещенную в приложение: «Бедный всадник, или Пушкин без головы» — отличная! Еще раз демонстрирует, что Анна Герасимова относится к тому очень небольшому количеству людей, которые действительно понимают о чем и зачем всё это, и, главное, как это работает.
Замечательно, конечно, у Анны Герасимовой это ее сочетание полного отсутствия филологического тщеславия (что, вообще говоря, не означает отсутствия честолюбия) с уважением к собственной человеческой личности, к своим мнениям, ощущениям, наблюдениям, восприятиям. К собственной человеческой истории, в т. ч. и в смысле отношений с филологией, к ее праву быть зафиксированной в статье, в комментарии. У адептов «чистого филологизма» получается обычно наоборот. Именно это редкостное сочетание привело, я думаю, к решению создать лежащую передо мной «Библиотеку Введенского в одном томе». «Нормальный» филолог переписал бы все, что смог, своими словами, сослался бы, конечно, чин по чину — статья была бы на треть книги, библиография еще на одну треть, и ни один коллега не удивился бы. Герасимова взяла целиком то, что ей показалось необходимым для сопровождения корпуса Введенского — в том числе и потому, что щедра и великодушна.
Я глубоко убежден, что филология — служебная наука, что она должна обслуживать читателей и/или писателей, проще говоря, литературу. А не наука «для себя», рассматривающая существующие в мире литературные тексты (и их авторов) как обслуживающий материал для создания монографий, диссертаций и докладов на научных конференциях (в которых, конечно, ничего дурного нет). Другими словами: литературоведение не ведает литературой и не ведет ее, а предоставляет ей материалы (в широком смысле, включая сюда идеи и представления), полезные для практического самопознания и воспроизводства. И — иногда, в особо счастливых случаях — развития. Филология Герасимовой удовлетворяет меня в этом смысле полностью — она в лучшем смысле слова служебна. Т. е., говоря словами того же Введенского (не раз уже цитировавшимися), «приглашение меня подумать».
В общем, книга совершенно необходимая.

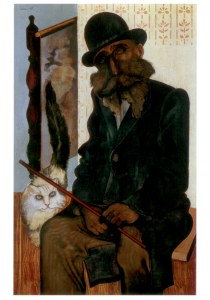 . Несколько раз прошли мимо двух русских писателей, оживленно обсуждающих на лавочке какие-то литературные дела (какие — не знаю, обычно стараюсь не вслушиваться, когда люди за пределами Большой России говорят между собою по-русски, поскольку предполагаю, что они рассчитывают на языковую анонимность, что в наши времена, конечно, смешновато — особенно в Мюнхене), пока не сообразили, что один из них — Борис Хазанов. С Геннадием Моисеевичем мы знакомы уже скоро двадцать лет, вторым же коллегой оказался Александр Мильштейн (приятно было познакомиться).
. Несколько раз прошли мимо двух русских писателей, оживленно обсуждающих на лавочке какие-то литературные дела (какие — не знаю, обычно стараюсь не вслушиваться, когда люди за пределами Большой России говорят между собою по-русски, поскольку предполагаю, что они рассчитывают на языковую анонимность, что в наши времена, конечно, смешновато — особенно в Мюнхене), пока не сообразили, что один из них — Борис Хазанов. С Геннадием Моисеевичем мы знакомы уже скоро двадцать лет, вторым же коллегой оказался Александр Мильштейн (приятно было познакомиться).