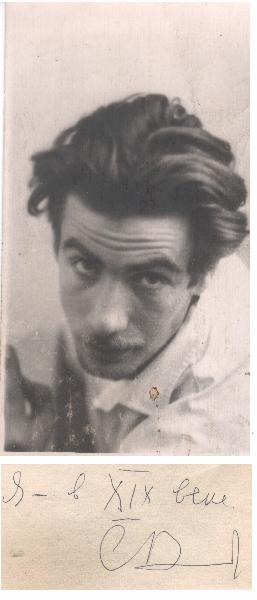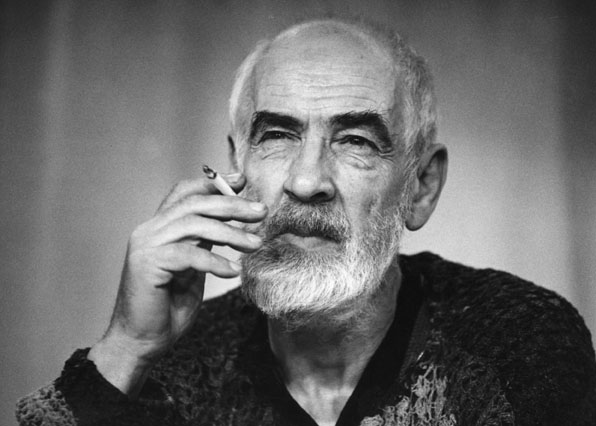Алфавит в произвольном порядке № 14: «Т»
Твардовский
Неудивительно, конечно, что дедушку Гордея односельчане погоняли «паном Твардовским» — даже если бы дело не происходило в Смоленской земле, сравнительно недавно — для долгой деревенской памяти — возвращенной из польского владения, достаточно было бы и заметной популярности мотива о «польском Фаусте» в русской, в том числе «народной» культуре XIX века.
Удивительно другое: до какой степени имя — т. е. фамилия, получившаяся из уличного прозвища — определило судьбу Гордеева внука, «великого советского поэта и крупного государственного и общественного деятеля», лауреата трех Сталинских, одной Ленинской и одной Государственной премии, главного редактора «Нового мира», создателя «Теркина», наконец.
По польской легенде некий краковский дворянин продал душу черту — за магические силы, богатство и славу. В Польше до сих пор демонстрируют туристам разного рода реликвии, связанные с деятельностью пана Твардовского — например, магическое зеркало, в котором он показывал одному польскому королю только что умершую его королеву, по которой король отчаянно тосковал. Зеркало имело способность показывать будущее, но с начала XIX века не имеет, потому что его в сердцах сломал Наполеон по дороге в Россию — не понравилось предсказание.
Рассказывают также, что хитрому пану (немецкая «Википедия», впрочем, со свойственной немецкому народу невинной слабостью приписывать себе все на свете изобретения, утверждает, что Твардовский был немцем, переселившимся в Краков) удалось волшебным образом перенести все запасы серебра Ржечи Посполитой в один-единственный рудник, незадорого купленный, естественно, им, паном Твардовским — и хоть его паном Березовским или паном Ходорковским называй. Короче говоря, тот еще был жох, этот пан! И в договор с чертом ему удалось вписать хитроумный параграф, что, дескать, расплата душой может состояться только в Риме. Легко догадаться, что ни к какому Риму одна из подписавших договор сторон даже и приближаться не собиралась и жила себе поэтому безо всяких забот. И как-то зашла перекусить в трактир под названием «Rzum», в переводе с польского «Рим». Там-то его враг рода человеческого и заполучил в свои кривые когти.
И полетели. Куда полетели — не совсем ясно, но не в хорошее место наверняка. Тут хитрому пану Твардовскому пришла в голову блистательная идея — он запел гимн матке боске, Богородице то есть, и Сатане пришлось выпустить его из обваренных лап. (Интересная, но лишняя в нашем контексте аналогия, прошу не обращать на нее внимания: эпизод напоминает о срочном воцерковливании вышеупомянутых отечественных магов, особенно платонического еллина).
Но полностью прощен пан Твардовский всё же не был: он живет с тех пор на Луне, с одним-единственным слугой, которого время от времени превращает в паука и спускает на паутинке поближе к Земле — подслушивать земные новости. (Боже ты мой, опять — а не в Лондоне ли находится эта Луна? да и на должность паука кандидаты имеются…)
Эпизодом в жизни А. Т. Твардовского, соответствующим заключению известного договора, вполне можно считать историю, произошедшую с ним в 1931 году: семья автора свежеиспеченной поэмы «Путь к социализму», посвященной коллективизации и тов. Сталину на белом коне, была раскулачена и как раз в этом году выслана на поселение. Молодой поэт передал семье просьбу прервать с ним всякие отношения. Отец Твардовского, кузнец, был так потрясен поступком сына, что без разрешения ушел с поселения и добрался до Смоленска, чтобы посмотреть, что с сыном случилось — не заболел ли, не сошел ли с ума. Сын оповестил милицию.
Дальнейшая его карьера известна — смоленский комсомолец превратился в главного поэта Советской страны (причем не спущенного сверху, не назначенного, а действительно как бы выбранного народом — благодаря «Теркину», конечно), орденоносца, лауреата, члена РКК ЦК и кандидата в члены ЦК КПСС, редактора «Нового мира», наконец. И конец этой карьеры тоже известен — 1970 г., увольнение из «Нового мира», Красная Пахра…
Я вот что подумал: а не записано ли было в договоре 1931 г., что душа Александра Трифоновича будет в безопасности, пока он строит «новый мир»? Или пока «новый мир» строится и/или существует вокруг него. Тогда, в 1931 году в Смоленске, ему наверняка казалось, что новый мир будет строиться еще долго, а существовать вечно. А тут вот — каламбуры нечистой силы! — его извергли из «Нового мира» и враг явился за душой…
Впрочем, лично мне очень хотелось бы верить, что и новому пану Твардовскому удалось в последнюю секунду кинуть Сатану, хотя бы ради «Теркина» и пары стихотворений. Небось русский поляка не глупее. Только вот какую песню он запел, уносимый не знаю куда с Красной Пахры — «Я убит подо Ржевом», быть может? И к кому она была обращена, эта песня — к Богоматери или к собственному отцу, кузнецу из Загорья Смоленской губернии Трифону Гордеевичу Твардовскому? Но об этом мы вряд ли когда-либо что-либо узнаем.