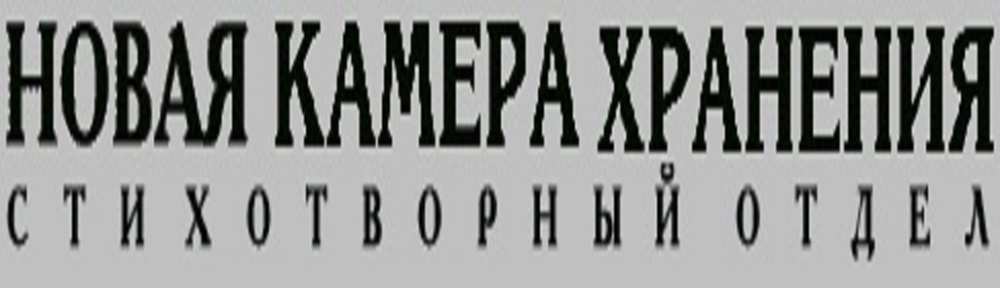Сергей Павлович Королев был, как известно, последователем Константина Эдуардовича Циолковского, не столь ученого в строгом смысле слова, сколь «естественного мыслителя», как сказал бы Д.И. Хармс. Разумеется, это был едва ли не самый талантливый и начитанный «естественный мыслитель» в России, а может быть, и в мире, и действительно придумал много важного для будущей космонавтики, но главным для него были не технические придумки и физические формулы, а утопические идеи, для осуществления которых, собственно и требовалось заселить иные планеты. И Королев об этих идеях был вполне осведомлен. Более того, он в юбилейной статье в 1947 году ухитрился упомянуть о «философских» работах корифея, которые к тому времени, разумеется, давно находились в спецхране.
По сути своей эти философские или квазифилософские работы развивали идеи Николая Федоровича Федорова. Другие планеты были необходимы, поскольку когда все люди достигнут бессмертия, а все отцы воскреснут, на земле им не хватит места.
А теперь внимание. Федоров — внебрачный сын князя Гагарина. О чем напомнил мне Никита Львович Елисеев, которому спасибо.
Что перед нами — случайность? Или тайный федоровец Королев хмыкнул, увидев в списке кандидатов на первый полет эту (псевдо)аристократическую фамилию и…
Вряд ли, конечно. Из людей 1907 года рождения очень старательно выбивали память об их юношеских неоротодоксальных интересах. А уж из человека, пару лет проведшего в лагерях и лет пять в шарашке, а потом сделавшего секретную карьеру, эта память выбита была, должно быть, прочно.
Хотя — все бывает.
Мне приснился поэт
Александр Лаппо-Капитонович (1792-1870).
То есть его стихи, имя и годы жизни. Отчество не приснилось, возможно, оно «приклеилось» к фамилии.
Стихов, естественно, не помню. Но они были белые.
Посмотрев еще раз фильм «Другие»…
… я понял наконец, почему на дворе + 6 в середине января.
Вероятно, я умер месяца два назад. Все вокруг меня по-прежнему, жизнь продолжается, но это все иллюзия. Все это мне мерещится, в том числе вы, дорогие френды, и ваши посты и комменты. И только погода остается такой же, как в день моей смерти. И это разоблачает обман.
Страшно? А мне-то как страшно!
Я это так себе представляю
В 1890 каком-нибудь году у всего просвещенного сословия России, без различия происхождения (дворянского, семинарского, мещанского, инородческого) были общие «идеи» и «принцЫпы», которые (воленс-ноленс) разделялись всеми — от Михайловского и Скабичевского до Чехова и Владимира Соловьева и до последней усть-сысольской дантистки. Если ты этих принцЫпов не разделял, тебе был путь один — «в лагерь реакции», к Победоносцеву, Леонтьеву и Иловайскому, и дальше — в «черную сотню», еще так, впрочем, не называвшуюся. Достоевский не смог сделать выбора, и оттого страдал (знаменитый сюжет с «разговором у магазина Доницетти»).
Толстовство было неудачной попыткой радикального выхода из этой дихотомии. Стать простым настолько, что между Михайловским и Леонтьевым, между профессором и жандармом для тебя разницы уже не будет.
«Декаданс» — это тоже был вариант выхода, но в противоположную сторону: возможность обретения сложного индивидуального сознания, исключавшего какой бы то ни было выбор между Боклем и православием-самодержавием-народностью, между «народными друзьями дорогими» и «слугами царевыми». Это был процесс превращения интеллигентов старого типа в несколько иной слой, и не случайно Михайловские объединись против символистов с Бурениными, продемонстрировав свое тайное тождество. Если бы та культурная революция победила, и Михайловским, и Бурениным места не было бы.
Но настал 1905 год, и из Бальмонта попер какой-то обличительный Мачтет, а из Иннокентия Федоровича Анненского — Николай Федорович («Старые эстонки»). «ПринцЫпы» немедленно проснулись. С неизбежной чероносотенной противофазой…
Потом — благословенное время «столыпинской реакции», когда все эти люди взялись за ум, и появились «Вехи». Да и много всего умного и талантливого появилось.
Что же происходит сейчас? То же, что в 1905 году. В либеральном лагере — возрождение худших советско-интеллигентских стереотипов, риторики перестроечных газет, с противофазой в духе национализма куняевского пошиба. Но ведь сейчас не 1905 год, а типичная столыпинская реакция. Время думать, а не вопить. Отчего же все вопят и с каждым днем глупеют?
Необыкновенные приключения итальянцев в России.
Во-первых, топография. Герои мгновенно перелетают из одного района Ленинграда в другой. Трамвай поворачивает с Исаакиевской площади — и оказывается на Фонтанке. На Петроградской взрывают дом — и открывается вид на Невский проспект. Дивная московская уверенность, что этого «никто не заметит». Кстати, судя по фильму, у людей 1970-х годов не было даже мысли о том, что снос старого дома в исторической части Петербурга — преступление. При этом сносили, надо отдать им должное, сравнительно мало.
Еще: дело о кладе расследует милиция. Когда я учился в Финансово-экономическом институте, у нас на курсе был мальчик из потомственной гэбэшной семьи — он очень возмущался этой неточностью (корпоративное соперничество!). Разумеется, такие дела были по гэбистской части, но про КГБ упоминать в кино было нельзя без особого разрешения. Так же, как про Бога, евреев, секс и ряд других явлений бытия.
Но главное — лев. Этого Кинга держала в своей квартире сумасшедшая семья, сбитая с толку своей сахарской фамилией. У меня был в детстве набор открыток про семью Берберовых и их киску. Во время съемок фильма Кинга и убили — он, видите ли, решил «поиграть» с прохожим, а оказавшийся рядом милиционер не понял львиного юмора. Берберовы завели нового льва, который спустя несколько лет ими позавтракал. Или пообедал.
С нем рождения Даниила Ивановича. И с наступающим свиногодом…
ПОЧЕМУ:
Повар и три поварёнка,
повар и три поварёнка,
повар и три поварёнка
выскочили на двор?
ПОЧЕМУ:
Свинья и три поросёнка,
свинья и три поросенка,
свинья и три поросёнка
спрятались под забор?
ПОЧЕМУ:
Режет повар свинью,
поварёнок — поросёнка,
поварёнок — поросёнка,
поварёнок — поросёнка?
Почему да почему? —
Чтобы сделать ветчину.
Новогодние пародии Кирилла Анкудинова
http://exlibris.ng.ru/tendenc/2006-12-28/5_o.html
О башне
Наконец увидел эскиз предполагаемой газпромовской башни в устье Охты.
Разумеется, все не так страшно, как описывали. Я опасался, что это что-то вроде таллинских коробок или расфуфыренной жути в «стиле Luzhkoff». На деле же — ажурный шпиц, вполне корректный к историческому силуэту. Кричащим про Петропавловский и Смольный соборы, которые «пропадут», не мешало бы помнить, что Растрелли планировал рядом со Смольным собором 140-метровую колокольню. Вообще городская среда — это набор невероятных случайностей, даже в таком городе, как Петербург. В конце XIX века Зимний дворец и Главный штаб были, как известно, свекольно-красными, и представить из себе их иными никакой Курбатов, никакой Анциферов думаю, не могли. Хотя уж они-то превосходно знали, что этой раскраске лет сорок, не больше.Привычка. А тяжеловесные дома на набережной меду арками Адмиралтейства? А Спас-на-Крови, этот псевдорусский монстр?
В общем, как двадцать лет назад, во время демонстраций у Англетера — шум из-за пустого места. И, как тогда, кто-то попытается сделать на этом политическую карьеру. Только едва ли выйдет — времена не те.
При этом никто не протестует из-за практически бесконтрольного сноса «рядовой застройки» XIХ века в боковых улицах, на месте которой вырастают уродские гламурные дома, как будто из детских кубиков сложенные — и тебе черное стекло, и искусственный мрамор, и позолоченные дверные ручки, как в Tramp Tower.
Городская среда — это как книга стихов. Хорошие стихи могут сначала плохо в нее вписываться, но они в конце концов перестроят наше восприяние целого «под себя». А плохие — не впишутся никогда и ни во что.
Из «Разговоров» Липавского
Л.Л. В конце прошлого века и в начале нашего часто в книгах, в текстах и на полях ставили «sic!» с восклицательным знаком. Почему?
Д.Д. Это у русских меньшевиков. Оно обозначало чрезмерную гордыню и сектантское всезнайство, когда все казалось так ясно, что иное мнение считается своего рода умственным уродством. Короче говоря, «sic» означало: кто не согласен — дурак.
Это писалось, напомню, в 1933-1934 годы. Повадки руской леволиберальной (и всякой другой) интеллигенции в начала XX вка таковы же, как и сто лет назад. «Кто не согласен — дурак». (Или наймит кровавой гэбни/мировой закулисы/компрадорской буржуазии…)
Интересно, как все это будет выглядеть из 2033 года?
Гаити
Я долго думал, на что похоже наше социокультурное сообщество.
Кажется, понял.
На остров Гаити.
На этом острове не водится белых людей — только негры и мулаты разной степени смуглости. Но нигде нет или еще недавно не было такого расизма. Мулаты более светлые третировали мулатов потемнее, те — мулатов еще более темных, те — негров.
Правда, иногда случался переворот и к власти приходили негры (Дювалье, скажем — Папа Док и его Бэби). И пирамида переворачивалась. Чем темнее кожа, тем лучше.
Именно об этом я думаю, когда Ольшанский (например) зовет Кашина (например) «кухаркиным сыном» и требует отправить его на конюшню или в резервацию. Потому что реальная социокультурная разница между Ольшанским и Кашиным — минимальна. Если вообще наличествует.
А между тем это целая пирамида, как на Гаити. Каждый мало-мальски образованный человек в нашей стране считает каких-то своих сограждан «слободской шпаной», «быдлом», «гегемонами» и т.д. (Есть еще хорошее слово — «скобарь». По Ахматовой, это — «обидное прозвище псковичей», но в Ленинграде в 1960-80-е годы так звали «понаехавшие тут» и уже малость пообтесавшиеся только-только «понаехавших тут». Тех, кто пел частушки в Парке Есенина в Веселом Поселке — те, кто уже предпочитал Аллу Пугачеву).
Подлинной культурной элите это совершенно не свойственно. Вспомним, как благожелательно относился Владимир Дмитриевич Набоков-старший к учителю Василию Мартыновичу и гувернеру Ленскому. И мы, потомки Василиев Мартыновичей и Ленских (в лучшем случае!), должны быть благодарны за это старому образованному слою. А не чваниться, прости Господи, аттестатом 57 школы.
И когда в России возникнет (надеюсь, что возникнет!) слой по-настоящему наследственно-просвещенных людей, его первым признаком будет отсутствие мелкого чванства, основанного, в сущности, на неуверенности в себе.