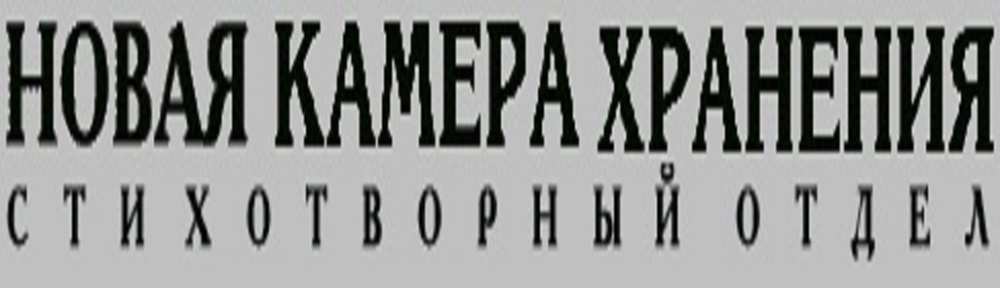аеийоуэыюя
Воспоминания Анри Волохонского —
местами очень интересные.
http://kkk-plus.nm.ru/henri.htm#14
Например, вот это:
«Моя теория театра… Эти слова любил повторять Борис Понизовский в те времена, когда мы с ним познакомились, то есть году в пятьдесят восьмом.
Меня туда кто-то привёл. Я вошёл и увидел живого титана, с бородой, коротким мощным носом, голубыми глазами и руками, вооруженными палками. Титан рассуждал:
— Моя теория театра такова, что даёт возможность…
Дальше не помню. Однако после этого было еще несколько случаев познакомиться с его теорией. Так он предлагал устроить висячий зрительный зал в середине, вернее в центре пространства, а сам театр чтобы летал вокруг, или другой театр, который бы начинался с «театра одного актера», роль коего исполнял бы гардеробщик, или третий театр для тактильных чувств в виде кишки со сменяющимися внутри фактурами, чтобы зритель проползал, а его эти фактуры то гладили, то щекотали бы, то чесали и царапали. Всё это называлось «Моя теория театра». Там были и другие театральные явления: он тогда выпиливал из полиуретановой твёрдой пемзы небольшие изображения, которые навешивал, пораскрасивши, на свою жену чрезвычайно оригинальной наружности. Он же наряжал её в платье из мешковины и обувал в туфли на каблуке с приставным носом, а маленькие картины к этому вполне подходили. Те, которые он делал из полиуретановой пемзы.
Ну там конечно вид был, словно в академии неистовых знаний. Он меня спрашивает:
— Стихи?
— Да, стишки, — говорю.
— Читайте.
Я стал читать.
— У Вас слаба глагольная форма…
Так сказал мне Понизовский, и он был прав…
…Так вот оно всё длилось, пока не произошёл нижеследующий казус. Основой происшедшего была любовь. Некий мой приятель встретил как-то очаровательную девушку. Маленькая, тоненькая, с чубчиком вверх как у Бе-Бе, у Брижит, то есть Бардо. Он тоже маленький был. Погулял с ней, походил по улицам, а потом привёл к Понизовскому показать биение интеллектуальной мысли. Она, кстати, сама в студии у Акимова обучалсь. Приводит, а Понизовский прямо сходу:
— Моя теория театра…
Девушка заслушалась.
— И, — говорит Понизовский, — я сам буду Вас обучать. Бросьте Вы эту студию Акимова.
А приятель мой не затем её туда привёл, чтобы тот её обучал, а хотел показать строение нынешних высоких мозгов, чтобы самому с ней предаваться ласкам. Он обиделся.»
Мое общение с Борисом Юрьевичем Понизовским (земля ему пухом, кучковатая земля Волкова кладбища, где и Олег Григорьев, и Сергей Вольф в гипсовой урне, и многие его, Бориса Юрьевича, друзья, сверстники и знакомцы) относится к 1985-1995 годам. Теория театра стала воплощаться (ненадолго) в дивные разноцветные куклы полувоображаемого театра ДаНет и блуждающих по огромному, с проломленным потолком залу на Пушкинской 10 молодых актрис, которых он обучал, конечно, да так, видимо, ничему и не обучил. Или — обучил, но в мире, где его нет, эта наука оказалась втуне. (В этом мире есть, правда, Галина Викулина, больше чем актриса, или ученица, или жена: она хранит, должно быть, некоторые секреты в своем далеке). А чему он обучил, меня и других, так вот короткими словами не опишешь. Мужеству, уму, безумию и смеху: всего по чуть-чуть, потому что где ж нам до него. И про глагольную форму не говорил, хотя был до конца окружен поэтами, живыми и мертвыми, прекраснейшими и так себе.
(Анри Волохонский, кстати — очень хороший поэт, особенно ранний. Недавно пришлось перечитать… Какие у него стихи про слона: «Четыре человека ног его…».)
День и ночь
И древние дворы, и новые дворцы
Из темного желе и светлого железа,
И грязные шуршащие столбцы
На простынях прессованного леса,
И бризы площадей, и улиц сквозняки,
Толкающие взад-вперед по тверди
О четырех колесах сундуки,
Дрожащие под ветрового Верди,
И пушка над рекой, и корюшка в реке –
Уму не поделить, не перемножить зренью,
Не увезти в дрожащем сундуке
Подречной полостью в кудыкину деревню.
А там какие-то чудные существа,
Сбежавшие от древнего юнната,
Рычат – и рык походит на слова,
Которые и понимать не надо.
Но в час, когда ольха за шторой проскрипит
И взвизгнут подметальные машины,
Ты вдруг проснешься, как и все, кто спит:
Складные женщины, упругие мужчины.
И сразу вспомнишь все, что видел наяву
И то, что не вместилось в окоеме:
Суда, утюжащие мятую Неву,
Ондатры в норах, стулья в тихом доме.
И ржавый шланг, и облысевший кот,
И дяденька с зонтом, что вышел к остановке –
Все обретет свой смысл, добудь лишь код,
И слепится в слова, как черточки в шифровке.
А если этот смысл к утру сгорит дотла,
Хоть звуки голые ты выведешь из ада,
И подберешь им вновь значенья и тела,
Хотя тебе и знать-то их не надо.
Кому интересно
Из «Литгида Петербурга»:
10.04.07 вторник 19.00 Панорамный зал клуба «Революция» (Садовая ул., 28-30,
вход с Садовой ул., М.Гостиный двор)
Первый вечер серии <Трио>. Тема: Поэзия и опыт. Приглашены известные
петербургские поэты Дмитрий Григорьев, Александр Скидан, Валерий Шубинский.
Куратор и модератор — Дарья Суховей. Зал расположен практически на крыше —
поэтому можно одновременно заниматься тремя действиями — слушать стихи,
дискутировать и любоваться видом сверху на крыши Петербурга.
Сам в первый раз в этом месте. Между прочим, будет продаваться ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ количество экземпляров только что вышедшего нового «Временника Новой Камеры Хранения» со стихами двух из трех участников вечера, а также множества других замечательных поэтов.
Три варяга
Рюрик, Трувор и Синяя Борода
Преступление и наказание
Тут меня в одной дискуссии спрашивали. а как бы я сам поступил, если бы мне нахамили в общественном месте. Ответил бы с матерком, невзирая на пол собеседника, или нет. Так вот — о стыдном. Я сегодня прилюдно обматерил практически невинного человека. И был за это наказан. Морально.
Ситуация такая. Стою на Невском и ловлю «тэшку». Через пятнадцать минут у меня лекция в университете (о поэтике Бродского). А «тэшки» все не те, а если те, проходят мимо. И вдруг — чудо! — две машины нужного мне маршрута одна за другой. Поднимаю руку.Первая маршрутка останавливается. Захожу в нее — и тут водитель говорит мне: нет мест. Тем временем вторая машина, естественно, проезжает мимо.
В другой ситуации я, может быть, несколько раздраженным голосом, объяснил бы водиле, что если нет мест, то не надо и останавливаться. Но до лекции уже не пятнадцать, а десять минут. А когда придет следующая маршрутка, одному бесу ведомо. И я в ярости выдаю тираду, которую на телевидении заменили бы сплошным «пи-пи», а Плуцер-Сарно, возможно, счел бы ценным источником примеров для своего знаменитого словаря.
Вышел. Успокоился. Подумал, что «для нас, филологов, запретных слов нет.» И что водителя этого я больше не увижу. По крайней мере, в ближайшее время.
Надо ж было, чтобы обратно из университета я поймал именно его «тэшку»! Он не узнал меня. Или сделал вид, что не узнал.
А мне было очень стыдно, дорогие дети. Учитесь на моем опыте. Не берите с меня пример.
Что хуже?
В «Новых Известиях» Евтушенко пишет о Вагинове, как в добрые старые времена.
В старых «Известиях» культур-мультур, как в добрые новые времена, занимается блондинка, которая автопритетно объясняет читателям, что романы Набокова, конечно, разок прочесть надо, но вообще-то «Мастер и Маргарита» не в пример интереснее.
Какой из вариантов хуже?
С одной стороны, знакомство с именем (условно говоря) Вагинова по статье (условно говоря) Евтушенко дает читателю опасную иллюзию лже-осведомленности, порождает (или возрождает) полуинтеллигенцию, слой иногда неприятный, а иногда — опасный, являющийся главной социальной базой разнообразного политического экстремизма. Да и просто — противно. С другой — нельзя исключить, что кто-нибудь из тех немногочисленных молодых людей, которым действительно надо прочитать Вагинова, впервые в жизни узнает его имя как раз из этой статьи. Все бывает.
И поэтому — я готов, в качестве меньшего зла, примириться даже с пошлым культпросветом либерально-советского образца. Хотя девяносто девяти сотым читателей газеты лучше бы оставаться с тем, что им близко и понятно, с Есениным, Булгаковым — далеко не самыми плохими, между прочим, из русских писателей.
Первая жертва путинского режима
«Первый великий русский, Пушкин, умер на дуэли, организованной Кремлем таким образом, чтобы он погиб»
Это сказал Андре Глюксман.
http://www.nr2.ru/policy/109646.html
Читал ли кто-нибудь оригинал? Он прямо так и сказал — «Кремлем»?
Срочно снять про это фильму, выписав во Францию Безрукова.
О биографиях
Почему-то мои коллеги, писатели биографий часто упускают из виду денежную, материальную составляющую жизни писателей. Например, из очень хорошей книги Мальмстеда и Богомолова о Кузмине я так и не понял, почему до начала своей литературной деятельности, то есть до 34-35 лет, он привольно жил, занимаясь исключительно изучением гностиков, штудиями старообрядческой иконописи, сочинением романсов и эскападами в Таврический сад, не заботясь о хлебе насущном, а позднее, перед Первой Мировой, для этого хлеба должен был много и неровно писать всяческую беллетристику. Или — другой пример — Пастернак: сколько ему платили за строку перевода, как это соотносилось со средней ставкой переводчика, со средним доходом советского писателя, со средней зарплатой жителя Москвы? Сколько получал Мандельштам в «Московском комсомольце»?
Ведь это не менее важно, чем точные детали романтической жизни или обстановка квартиры…
Долой то-то
По понятно какому поводу.
В свое время один раз участвовал (из чистого любопытства) в запрещенной демонстрации -в 1989 году. Демонстрация была против бойни на площади Таньяньминь. Когда-нибудь расскажу поподробнее.
По ходу дела, помню, скандировали: «Долой тоталитаризм!» Некий старичок язвительно сказал, что прежде на демонтрациях лозунги были попроще для языка — «Долой Тито!», например. Я посоветовал кричать «Долой то-то!». Еще помню, как впереди колонны шел какой-то случайный пьянчужка (явно не из «Народного Фронта» и не из «Демсоюза») и благоговейно нес плакат на китайском языке. В общем, смешно было.
А больше я на запрещенные митинги не ходил. На разрешенные — ходил, сопровождая жену (она была активисткой «Народного Фронта»). К слову говоря, тогдашние организаторы митингов, шествий и демонстраций (даже несанкционированных) старались избежать столкновений с милицией, а не провоцировали их. И с детьми на несанкционированное политмероприятие никого бы не пустили.
А вот что действительно интересно — полное непонимание и властями, и, прости Господи, объединенной оппозицией анатомии, физиологии и мифологии города. Да я бы на месте Валентины Ивановны никому не предоставлял бы места для митинга у Финляндского вокзала, а на месте оппозиционеров поцеловал бы ее взасос за это место, а не отказывался бы от него. А проводить шествие в выходной день по Суворовскому проспекту к Смольному примерно так же продуктивно, как проводить его в пустыне Калахари. Опять же, я бы на месте властей и ментов предоставил для этой мудрой затеи зеленую улицу. Я воображаю себе Михаила Михайловича и Гарри Кимовича, беспрепятственно ораторствующих перед двумя тысячами молодых коммунистов под окнами пустых чиновничьих кабинетов на глазах у двух с половиной удивленных пенсионерок.