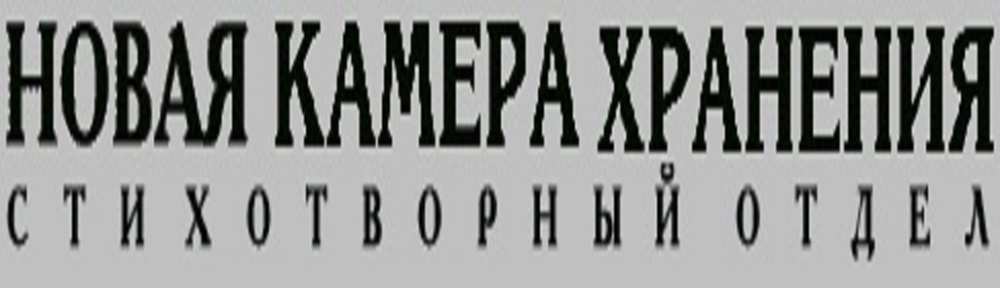1) Все собаки произошли от волка. Кроме такс.
Такса произошла от противоестественного соития осла и гусеницы.
2)Имя Кондолиза куда больше подходит для таксы, чем для госсекретаря США.
Из пляжного чтения
«Ангел западного окна» Мейринка.
Книга так себе, хуже «Голема», но прочитать ее надо, чтобы правильно понимать «Форель» Кузмина. Интересно, что Джон Ди (по Мейринку) сначала отождествляет мистическую «Зеленую страну» с Гренландией (она же Северная Туле). Надо сказать, что меня в детстве Гренландия очень занимала — тем, что огромный остров целиком покрыт ледником. Какая-то в этом мерещилась тайна. Лет в двенадцать я даже начал писать роман про древнюю цивилизацию. погребенную под льдами Гренландии. Что-то вроде Атлантиды.
И еще интересно, что Хармс, которому не понравился Кафка («не хватает юмора»), любил серьезнейшего, свободного даже от «романтической иронии» Мейринка. Правда, Мейринка он читал в двадцать лет, а Кафку в тридцать пять.
Музыдвака
Издательство «Наука», вообще-то известное добросовестностью, в моей книге допустило забавную оплошность. Вместо знаков ударения, видимо, при выводе на пленку, выползли цифры 2 после соответствующей гласной. В подарочных экземплярах я постараюсь исправить, к тем же, кто приобретет книгу в магазине, если такие будут, просьба:
музы2ка читать как музЫка
язы2ка как как язЫка
че2рве как чЕрве
быстры2 как быстрЫ
о2стры как Остры
(прописной буквой выделены звуки, находящиеся под ударением).
В одном месте компьютер соригинальничал и вместо ударного «о» напечатал «у».
Соответственно, вместо «филосуф» читать «филосОф».
Итак — о Тарковском (обещанное)
Вот что я думаю о недельной давности юбиляре…
В начале тридцатых годов существовала четверка/группа/»квадрига» (по позднейшему определению одного из ее участников)молодых поэтов — Арсений Тарковский, Мария Петровых, Аркадий Штейнберг и Семен Липкин. Все они вышли (с тем или иным привоем) из субкультуры, которую Вадим Кожинов так неудачно назвал «лефоакмеизмом». Неудачно не потому, что «лефоакмеизма» не было и быть не могло — мог быть и был! Лефоакмеизм это… например, Тихонов (с середины 1920-х), Сурков, Симонов: такое же приспособление акмеистической технологии для исполнения социального заказа, как в ЛЕФе приспосабливалась технология футуристическая. Но московский неоклассицизм 1920-х, школа Шенгели — это совершенно другое. По существу это были, конечно, в антропологическом, лингвистическом и эстетическом смысле «бывшие» люди, но, в отличие от своих ленинградских собратьев (таких, как Андрей Николев, например), они своей маргинальности и обреченности не понимали и на что-то всерьез рассчитывали. Шенгели — тот просто рассчитывал на место советского Брюсова, и ничего не вышло, при том, что как поэт он был Брюсова талантливее. Отсюда приподнятая и напряженная интонация этих москвичей, их мускулистый язык, так контрастирующий с зияющим разверстыми гласными языком и наивно-растерянной интонацией последних петербуржцев (единственное исключение в Москве — поздняя Софья Парнок, которая, конечно, ближе к Вагинову и Николеву, чем к Шенгели).
И вот — четыре поэта, изначально писавшие примерно на одном уровне. Всех четверых не печатают или печатают очень скудно, все зарабатывают, с подачи грузина Шенгели, переводами с языков восточных народов СССР, с подстрочника, разумеется. Проходит двадцать пять лет, включающие 1937 год, войну (на которой побывали все мужчины из «квадриги») и т.д. И вот — конец пятидесятых. По-прежнему четыре поэта, по-прежнему переводы (только отсидевший Штейнберг с восточных переключился на западные), по-прежнему всех не печатают. Но трое из четверых мутировали и стали советскими поэтами, не по идеологии, а по поэтике (ясность и однозначность мысли, четко обозначенный лирический герой, без всякой двусмысленности и масочности, конкретность бытовых деталей, живой разговорный язык без поэтизмов, вульгаризмов и мало-мальски сложных культурных цитат — и т.д.) Хорошими советскими поэтами. Одними из лучших. А один остался по природе своей прежним, но вырос неизмеримо. Собственно, для его товарищей перемена природы и сделала невозможным подобный скачок. Советская поэтика не хуже любой другой, пока речь идет о просто хороших стихах, но она предусматривает некий потолок; Липкин, Петровых, Штейнберг витают где-то под этим потолком в очень приличной компании — Твардовского, Слуцкого, Самойлова, Кушнера, Ахмадулиной, Чухонцева… Обратная мутация невозможна или почти невозможна — конечно, есть исключения: тот же Липкин, после героического и во всех отношениях бессмысленного выхода из Союза Писателей в 1979 году, вдруг вернулся в свою молодость и на восьмом десятке писал стихи, в которых было дыхание, пусть и несильное, свободной эпохи и свободного языка; интересно, что немедленно по восстановлении в Союзе это дыхание закончилось.
Но Тарковский был уже сам по себе, в облаках над кровлей, и просто удивительно, как никто этого тогда не заметил, кроме Ахматовой, может быть. Ни советская власть не заметила — Тарковского первым из четверки и обильнее всех начали печатать (собственно, понятно почему: во-первых, деловая и пробивная жена; во-вторых, хорошая анкета: фронтовик и инвалид войны, русский, не сидел), ни молодые поэты. Шестидесятники не читали Тарковского в шестидесятые, а впоследствии внешне отдавали почести, в кулуарах снисходительно кривя рот и намекая на «вторичность». Вторичность имелась в виду — по отношению к Мандельштаму, но для последовательно советского вкуса и Мандельштам вторичен и книжен, не говоря уж о Бродском. Дело в том, что именно полное, без остатка превращение опыта, мыслей и чувств в лирическое вещество, которое для кого-то (для меня, скажем) и есть признак высокой поэзии, для советского читателя маркирует «вторичность» (другое дело, что есть поэты. у которых само лирическое вещество несет в себе воспоминания о претворенном материале — у Цветаевой, скажем, не случайно так любимой позднесоветскими людьми; Тарковский был не таков).
Хорошо, но почему Тарковского не расслышал, скажем, Бродский? Несмотря на несомненное личное и творческое знакомство (Ахматова, безошибочно определившая «чемпионов» в среднем и младшем поколении и дружившая с обоими, не могла не читать им стихов друг друга)- глухота была, кажется, вполне взаимной, но старшие часто глухи к младшим, тем более Тарковский, человек интуитивный и самодостаточный; другое дело тогдашний Бродский, с его молодой восприимчивостью и культурологической зоркостью… Плюс очевидные сопадения элементов поэтики и интонации Бродского и Тарковского, особенно в 1962-64 годы.
Ответ очевиден: помимо житейских обстоятельств (ревность к Анне Андреевне и пр.) — Тарковский был Бродскому просто не нужен. Бродский и лучшие из его сверстников создавали многомерный поэтический язык почти с нуля, и им даже вредно было знать, что есть нестарый человек, получивший его по наследству и сохранивший это наследство. Это знание повело бы их по ложному следу. Им-то никакого прямого наследства от той же Ахматовой не светило (пусть даже она сама хотела бы его им передать — не смогла бы), и они это понимали, а кто не понимал, из тех ничего и не вышло.
Возвращаясь к вторичности — была она все же или нет? Вторичности по отношению к конкретным предшественникам у зрелого Тарковского я не вижу. Конечно, это мандельштамовская линия русской поэзии, но и Мандельштам принадлежит, в свою очередь, к «тютчевской» линии, и Фет, и Анненский. Я не думаю, что Тарковский выглядит совсем уж неуместно в этом ряду. Его лучшие стихи — «О нет, я не город…», «Вещи», «Дерево Жанны», «Мы насмерть связаны распадом…», «Первые свидания», «Вот и лето прошло…», «Пляшет перед звездами звезда…» и еще несколько, в основном 1957-1968 годов — входят для меня в воображаемую «золотую книгу» русской поэзии. Проблема его вовсе не во «вторичности» и не в размерах таланта, конечно — с этим-то все было в порядке. Проблема — в недостаточной проявленности индивидуальности. Мы говорим — «как у Мандельштама», «как у Заболоцкого», «как у Бродского» и примерно понимаем, о чем идет речь, пусть все эти поэты очень за свою жизнь менялись. «Как у Тарковского» звучит более расплывчато. В нем было задатков на, допустим, трех разных поэтов — неосимволист типа Дилана Томаса (см. его «Оду» —
Мало мне воздуха, мало мне хлеба,
Льды, как сорочку, сорвать бы мне с плеч,
В горло вобрать бы лучистое небо,
Между двумя океанами лечь),
строгий лирик типа Одена и — если уж все параллели из англоязычной поэзии — холодный и возвышенный метафизик типа Уоллеса Стивенса (длинные стихотворения, написанные белым стихом). Ни одна из возможностей не реализовалась, точнее, реализовались все, но на эмбриональном уровне. Это было необходимо: миссия «последнего поэта эона», которую он интуитивно на себя принял, требовала не яркой индивидуальности, а широты, разнообразия и — главное — совершенства, точности, «сделанности», доведенной до блеска. В этом отношении Арсений Тарковский вне конкуренции. Но никаких личных «фишек», вроде дождя и пожара в фильмах сына. Пожалуй, лишь слово «криница» маркировано как «тарковское», да еще особенная космически-ностальгическая интонация.
Альтернатива? Среди сверстников Тарковского (немного моложе обэриутов, заметно старше «фронтовых поэтов») был один равновеликий ему мастер — Сергей Петров. Он тоже долго рос и поздно вырос, тоже был поэтом-переводчиком, но ему не повезло: печатать его при жизни толком так и не начали. У Петрова был индивидуальный стиль, очень яркий и узнаваемый. Слова «как у Сергея Петрова» будут лет через десять-пятнадцать, думаю, общепонятны. Но именно поэтому он не мог заключить собой и проводить сформировавшую его эпоху: он был слишком (используя его же образ) «самсусам».
Повторяю, речь идет о двух — для меня — равно замечательных поэтах…
А вот будет ли такой же завершитель, как Тарковский, у нашего поэтического эона? И нужен ли он ему?
Объявление
Отбываяю в страну без кириллической клавиатуры.
Поэтому мои размышления об Арсении Тарковском будут в ЖЖ не в день его столетия (25 июня), а с недельным опозданием. Но что такое какая-то неделя в сравнении с вечностью! И даже со столетием.
А пока — к сегодняшней (уже вчерашней) грустной годовщине:
Арсений Тарковский
СУББОТА 21 ИЮНЯ
Пусть роют щели хоть под воскресенье.
В моих руках надежда на спасенье.
Как я хотел вернуться в до-войны,
Предупредить, кого убить должны.
Мне вон тому сказать необходимо:
«Иди сюда, и смерть промчится мимо».
Я знаю час, когда начнут войну,
Кто выживет, и кто умрет в плену,
И кто из нас окажется героем,
И кто расстрелян будет перед строем,
И сам я видел вражеских солдат,
Уже заполонивших Сталинград,
И видел я, как русская пехота
Штурмует Бранденбургские ворота.
Что до врага, то все известно мне,
Как ни одной разведке на войне.
Я говорю — не слушают, не слышат,
Несут цветы, субботним ветром дышат,
Уходят, пропусков не выдают,
В домашний возвращаются уют.
И я уже не помню сам, откуда
Пришел сюда и что случилось чудо.
Я все забыл. В окне еще светло,
И накрест не заклеено стекло.
1945
Говорят, моя книга «Золотой век» (стихи и эссе 1984-2006 годов) только что вышла в серии «Русский Гулливер». Я не видел даже макета обложки, но доверяю вкусу моих издателей — Вадима Месяца и Александра Давыдова. Спасибо им, спасибо Дмитрию Виленскому, чьи фотографии использованы при оформлении книги, спасибо Игорю Вишневецкому за содействие.
А я сегодня получил замечательную книгу Ольги Мартыновой «Французская библиотека», изданную НЛО в серии «Поэзия русской диаспоры».
Обращаю внимание интересующихся,
что в текст стихотворения «Когда» (пост от 27 мая) внесены изменения.
После вечера Геннадия Алексеева
На вечере поэта, умершего в 1987 году, презентовалось две книги. Толстый том опубликованнного при жизни или сразу после смерти в СССР. И книжечка избраного неопубликованного (могущего, судя по всему, составить такой же точно том, а то и два-три).
В Ленинграде двадцать пять-тридцать лет назад, на закате Четвертого Рима, было четыре заслуживающих внимания «печатных» поэта среднего возраста.
У Александра Кушнера, одного из главных любимцев советской интеллигенции, в дни Перестройки практически ничего не оказалось «в столе». Хорошо это или плохо, но он не писал стихов «для себя» или «на всякий случай».
Почти не писал.
Виктор Соснора очень рано внутренне выбыл из советской литературы (ср. во «Всадниках» стихи 1959 года и написанные четырьмя-пятью годами позже «Последние песни Бояна»: другая не стилистика, не идеология — поэтическая и человеческая органика), но его по инерции продолжали дозированно печатать. Как ни странно, выбранные для совписовских книг стихи оказались, как правило, лучшими.
Глеб Горбовский — самый интересный случай. Ранний Горбовский, в сущности, пролетарский поэт. Советская культура была среднеинтеллигентской; если средний интеллигент (Всеволод Рождественский, Кушнер, Евтушенко, Куняев) принимался ей, то такой как есть, с настоящими своими чувствами, мыслями и языком. Пролетарий в советской мифологии был обожествлен, но настоящий пролетарий, с его языком и мировосприятием, был в советской культуре немыслим. У рабочего человека в СССР было два лица: придурковато-показное, казенное и подлинное. Ранний Горбовский именно так и устроен: для печати -«Так вот какая ты, работа, я так давно тебя хотел…»; для себя и друзей — «У павильона «Пиво-воды» стоял непьяный постовой…» и тому подобная прелесть. С годами он, однако, подтянулся в плане общей культуры, вылечился от алкоголизма и стал средним советским интеллигентом славянофильского направления.
Алексеев — единственный, чьи непечатные стихи писались всю жизнь, параллельно с печатными, при этом мало отличаются от них по поэтике, и однако, явно и заметно их сильнее. Почему?
После того, как советская власть окончательно разрешила верлибр (в середине 1970-х), в стихах Алексеева не было ничего такого, что могло бы не устраивать редакторов. Ясные по мысли, бодрые по интонации, среднелитературные по языку, при этом не про преступления большевиков, не про секс и не про евреев. Однако в некоторых стихотворениях мягкие парадоксы доводились до черты, за которой обнажалась сюрреальность бытия. Именно такие стихи отсекались безошибочным издательским чутьем. И именно за них, думаю, Алексеева надлежит помнить.
Мне нравятся эти стихи. В них есть какое-то монументально-простодушное лукавство, присущее (некоторым) ленинградским шестидесятникам. Из тех, кого я сколько-нибудь близко знал, что-то похожее (при иной поэтике и иной биографии) было у Олега Григорьева, у Сергея Вольфа, у Владимира Губина. В следующем поколении это исчезло.
Рок полубогов суровый
«Затем нас провели наверх в большую столовую. Пока звучали вопросы и ответы, нам подавали изысканный тартар из сибасса с гарниром из черной икры, крабовый гаспачо, очень красивые филе тюрбо и ломтики утиных грудок, а на десерт – сладкий суп из дикой земляники.»
http://www.inopress.ru/globeandmail/2007/06/04/14:56:32/ogarevo
Кто-нибудь знает, что такое тартар в кулинарном смысле? Если мясо-по татарски, то это мерзость, от которой и в самом деле можно в тартар сверзиться (я в будапештской гостинице однажды заказал по ошибке).Перченый сырой фарш. А что такое филе тюрбо? Они только красивые, или их еще и есть можно?
Перефразируя поэта С.,
«я не несогласный, я согласный», но Валентина Ивановна, кажется, сошла с ума.
В простом клиническом смысле. Алкоголизм, особенно женский — вещь опасная и дает долговременные последствия.
Другого объяснения ЭТОМУ я не вижу.
http://www.lenizdat.ru/a0/ru/pm1/c-1050373-0.html#1
Надеюсь, ее убедят подать в отставку по состоянию здоровья.