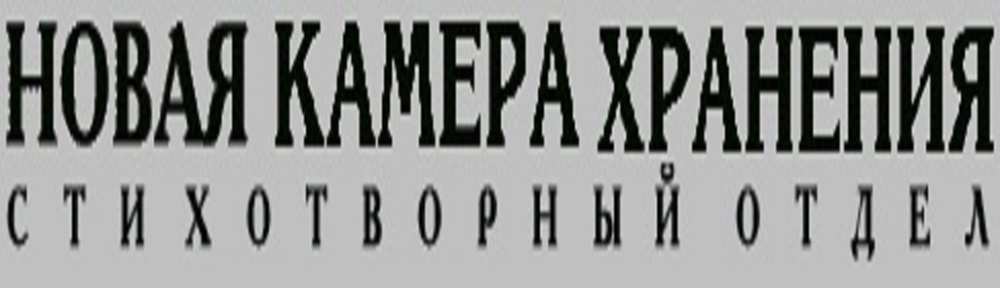Эта статья меня не то чтобы так уж удивила, но несколько огорчила. Она очень уж явно и грубо показывает, почему талантливейший Кирилл Решетников из «высокого лирика» превратился в нервозно-юродивого Шиша Брянского, а последний в конце концов нашел себя в качестве, скажем так, поэта кабаре. Тоже хорошего, но — с четко заданным «потолком», присущим жанру.
Дело не в том, о ком эта статья. Ну, любит Решетников Емелина — во-первых, это не новость, во вторых — как там у Введенского? — за мою долгую жизнь я еще не то увижу. В конце концов, у каждого есть собственный эстетический «органчик», и если Решетников этим «органчиком» слышит у Емелина «большое лирическое дарование» etc. — значит, слышит. Кому и горький хрен малина, кому и бланманже полынь.
Существенен тот взгляд на поэтическое искусство и его социальную роль, которым пронизана статья. «В наши дни поэт в России меньше, чем поэт. Он производит тексты для внутреннего пользования, его аудитория – критики и филологи, а также другие поэты (чаще всего – поэты-филологи, пишущие критику). Безумную веру в то, что это не навсегда, способно пробудить лишь собрание сочинений Всеволода Емелина».
А собрание сочинений поэта Ларисы Рубальской? Елены Исаевой? Я думаю, даже у Веры Полозковой значительно больше читателей, чем у Емелина, который как раз не к «народу» обращается и не «народом» любим, а, наоборот, презентует «народ» для элитарной московской тусовки (и это, в отличие от эстетических достоинств сочинений поэта N., факт объективный и несомненный). Именно для этой тусовки он «говорит от имени народа, собирающегося спросить кое с кого за экономические притеснения».
Но — почему? Почему «поэзия для поэтов» (а всякая подлинная поэзия всегда — «для поэтов», потому что для того, чтобы научиться чувствовать формально-смысловое пространство настоящих стихов, надо отчасти стать поэтом) кажется Решетникову ущербной? Думаю, причины в основном индивидуальные, но отчасти, может быть, там есть и «поколенческие» обстоятельства.
Мне кажется, писателям, родившимся между 1968 и 1976 годами (далеко не всем, но не одному, не двум), очень повредило то, что их юность совпала с перестроечным ненормальным взрывом народного интереса к «культуре», в том числе к текущей словесности. И последующее возвращение к норме было воспринято ими как катастрофа. (Когда современные стихи читает в общей сложности несколько десятков тысяч человек, а общий круг читателей текущей «серьезной» поэзии едва ли меньше — это норма). Отсюда у одних — готовность капитулировать перед ничтожнейшими внешними обстоятельствами и даже встать на сторону этих обстоятельств, у других — желание разжевать и развести водичкой культуру, лишь бы донести ее до народа, у третьих — стремление (чисто теоретическое пока что) самыми жесткими средствами «перевоспитать» народ, заставив его любить не русский шансон, а русскую поэзию. Это все явления одного порядка. (Мне уже приходилось об этом писать в связи с другим автором).
И еще. Когда речь заходит о «нарушении политкорректных табу», возникает вопрос о том, кто и почему их нарушает. Разумеется, передовая интеллигенция, с ее самодовольством, безответственностью, кукишем в кармане, коллективными умом, честью и совестью — малоприятна. Но выйти из интеллигенции можно «вверх» — в самостоятельно мыслящие одинокие люди. А можно «вниз» — в люмпен-интеллигенцию. Люмпен-интеллигент живет все тем же общим умом, общей честью и общей совестью, только назло ведет себя (или высказывается) бесчестно и бессовестно.
Я бы сказал так: из «царства Короленки» есть два пути: в Мандельштамы и в Тиняковы (замечу кстати, что идея сходства Емелина с Тиняковым была до Решетникова независимо друг от друга высказана Г.Моревым и в.п.с.).