http://booknik.ru/publications/?id=33970
Статья о Житкове и Жаботинском, точнее, об их романах: 14 комментариев
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
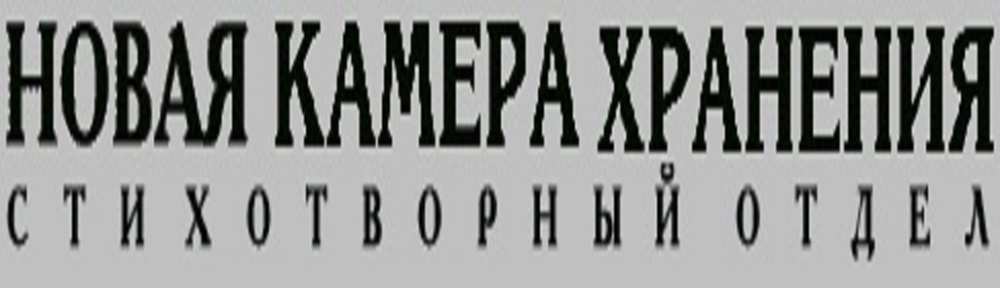
http://booknik.ru/publications/?id=33970
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Спасибо!
Очень интересно.
Очень странно. Романов не читал, этих писателей вообще не читал ( не считая, разумеется, «Что я видел», но это, кажется, другой писатель написал).
А рецензия интересна как самостоятельное произведение — и даже очень интересна.
И порой хочется прочесть романы — наверное рискованное предприятие, особенно с Житковым.
Как же другой? Советский писатель для детей и юношества Житков. И это писалось в то же время, что и «Вавич».
Конечно, Борис Житков, тот же самый человек — только это все-таки, насколько я понял, другой писатель
А «Пятеро» прочитайте: книжка небольшая и читается великолепно. У Игоря должна быть.
Мне не кажется, что Жаботинский преследовал в романе какие-то идеологические цели. Напротив, роман анти-идеологический, он ностальгически описывает Одессу, которую он потерял. Сравните, например, рассуждения Торика перед крещением:
…мне кажется, попади я в кораблекрушение, никогда бы не соскочил в лодку, пока не усадили бы всех женщин и детей и стариков и калек; по крайней мере, надеюсь, что хватило бы силы не соскочить. — Но другое дело — корабль, с которого уже давно все поскакали, или внутренне решили соскочить; притом спасательных лодок вокруг — сколько угодно, места для всех хватит; да и корабль не тонет, а просто неудобный корабль, грязный и тесный, и никуда не идет, а всем надоел.
с рассуждениями самого же раннего Жаботинского из публицистической статьи:
На глазах у врагов и равнодушных наша молодежь с такой легкостью меняет религию, что у зрителя возможен только один вывод: раз это так легко и просто, то, очевидно, те, которые этого не проделывают, далеко не так страшно угнетены, и особенно о них беспокоиться нечего. Этот вывод естественно складывается и оседает не только у врагов, но, что гораздо важнее, у равнодушных, т.е. именно в том кругу, от которого зависит дать перевес друзьям или врагам. Как, какими доводами, бороться тут за отмену еврейского бесправия, за создание выхода из ямы, когда нам ответят: позвольте, но ведь выход уже есть, и очевидно вполне для вас приемлемый! Как, какими словами отстаивать эмансипацию общины, из которой сотнями дезертирует ее «цвет», ее молодая интеллигенция, и самым фактом своего массового бегства кричит на всю Россию: монастырь оставлен на вымирание, стоит ли о нем еще думать!
Жаботинский 30-х годов — высланный из Палестины идеолог диссидентского направления, сионистский мэйнстрим — против него, и главное — отчетливо видно, как над Европой сгущаются тучи, а сделать ничего нельзя.
Чувство бессилия и непоправимости — вот главная тема романа. По крайней мере, так я его прочитал.
Так о том я и говорю. Что получилось с точностью до наоборот: идеологема вывернулась наизнанку, и вместо осуждения получилось любование.
Рассуждения Торика о том, что «Бунд — подготовительный класс, а сионизм — это уж университет, а конечная цель — ассимиляция» стоят многого. Другое дело, что Торик, торопящийся креститься за шесть или семь лет до революции, сам оказывается не больно прозорлив. Это не говорится прямо, но, конечно, подразумевается.
Жаботинский — не Ленин, а нормальный, живой и яркий человек. По совместительству — неудачливый политический деятель (вне зависимости от дальнейшей судьбы его детища). Он и не ставил в романе идеологических целей.
В конце романа он пишет:
У людей, говорят, самое это имя Одесса — вроде как потешный анекдот. Я за это, собственно говоря, не в обиде: конечно, очень уж открывать им свою тоску не стоит, но за смешливое отношение к моей родине я не в обиде. Может быть, вправду смешной был город; может быть, оттого смешной, что сам так охотно смеялся. Десять племен рядом, и все какие, на подбор, живописные племена, одно курьезнее другого: начали с того, что смеялись друг над другом, а потом научились смеяться и над собою, и надо всем на свете, даже над тем, что болит, и даже над тем, что любимо. Постепенно стерли друг о дружку свои обычаи, отучились принимать чересчур всерьез свои собственные алтари, постепенно вникли в одну важную тайну мира сего: что твоя святыня у соседа чепуха, а ведь сосед тоже не вор и не бродяга; может быть, он прав, а может быть и нет, убиваться не стоит.
Не Ленин, даже не Троцкий. Но политик, идеолог. Да и сама структура книги легко обнажает изначальную задачу.
Валера, я по этому поводу полностью, как редко бывает, согласен с твоим вышестоящим оппонентом — он очень хорошо сформулировал вещи, о которых я тебе писал вкратце.
Статья, нбесомненно, очень интересная и полезная, но исходная оппозиция, положенная в основу ее конструкции, представляется мне сомнительной.
прочел по ссылке статью Жаботинского о русской классике — и впервые разочаровался в этом человеке: более местечкового текста я у него не встречал прежде.
Статья знаменитая, но не самая умная. Беда не в «местечковости»: в этом гордом эстете жил радикальный русский интеллигент.
В последнее время слово "местечковый" всё чаще употребляется в качестве политкорректного эвфемизма. Если Вы хотите сказать "провинциальный", так и скажите. Я не нашел ничего провинциального в статье Жаботинского. Когда я в свое время писал серию постов о еврейских образах в классической русской литературе, я объединил их тэгом "русская ласка", по названию этой статьи.
За прошедшие уже почти 100 лет ситуация изменилась, сегодня никак нельзя назвать товар, который евреи приносят в русскую литературу, второсортным. Да и тогда, наверное, это было несправедливо.
Обидно, конечно, когда кто-то, тем более культурно близкий, перестает считать наше всё — своим всем. Но само этот факт говорит не о провинциальности и не о какой-то загадочной "местечковости", а об отличном от Вашего угле зрения.
Извините за наезд.
Не стоит извинений. Поясню. Я всегда считал Ж. очень трезвым мыслителем, умеющим не вменять оппоненту свою точку зрения, а напротив — становиться на точку зрения оппонента и после этого анализиоровать оппонента трезво и умно.
Здесь же — какой-то првинциальный наив: Ж. с чего-то решил, что русская литература должна в явном виде излучать понмание и деятельное сострадание евреям. Что странно — ибо, если трезво — то для русской культуры евреи , живущие традиционной жизнью — просто чужие, почти как якуты. И интереса серьезного вызывать не должны — отличного от общегуманных, разве что. А евреи асссимилирвавшиеся (я не о формальной, а о сущностной асимиляции) тоже не интересны, так как просто являются частью русской культуры с не слишком сильной спецификой. Иначе говоря, это претензия из разряда «я такой маленький буду исходить из прагматических для меня соображений, а вот большой окружающий мир должен прагматику, конечно, отбросить и относиться ко мне исходя из соображений высокой Нравственности». Это как сегодня израильское общественное мнение порицает Россию за продажу оружия арабам: дескать, мы ваше оружие покупать не станем по практическим соображениям, а вот арабам вы его не должны продавать исходя из высокой нравственности.
Ну, и, само собой, баланс по русской классике у Ж. приведен предвзято и неглубоко.