Хронотоплесс.
Обозначает произведения с предельно зыбко обозначенным местом и временем действия.
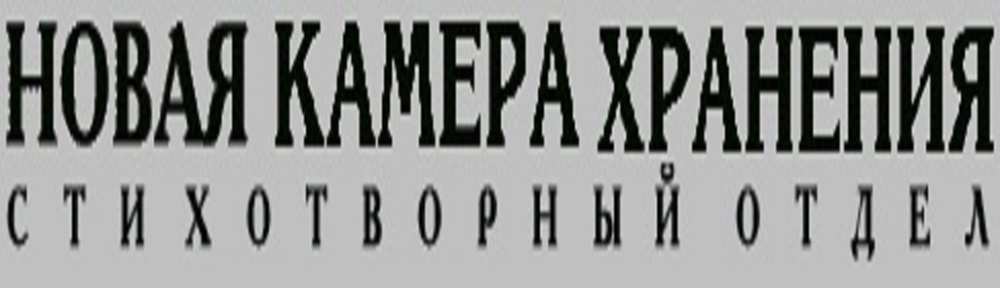
Хронотоплесс.
Обозначает произведения с предельно зыбко обозначенным местом и временем действия.
Фильм с таким названием был снят в Германии в 30-е годы. Кто-нибудь знает подробности — сюжет и т.д.?
Восполняю отпускные долги.
Вот какие мысли приходят в голову при чтении подобных записей.
Двадцать лет справедливо негодовали на недофинансирование науки и образования. Десять лет издевались над гэбней, для коей страна — «придаток к трубе», которая не заботится о развитии всего ученого и высокотехнологичного.
Но вот — свершилось. Поощрять науки изволила Елисавет. И что? Довольны? Какое там! «Ха-ха, дурацкая модернизация! Хи-хи, гэбня придумала нанотехнологии! Как хорошо странам, где этого нет!»
Чего нет? Понятно, что будет много пустой болтовни и пиара. Но деньги-то отпускаются, и немалые. Конечно, часть украдут. Часть (еще большую) потратят на пустяки и бессмыслицу. Но все равно- что-то останется. И совершенно непонятно, как можно по этому поводу огорчаться, при любой степени ненависти, допустим, к этой власти, к конкретным Медведеву и Путину. Даже гитлеровские автобаны не несут ответственности за прочие деяния своего чудотворного строителя.
Есть, конечно, одно предположение. На самом-то деле никакие высокие технологии свободомыслящей интеллигенции не нужны были — это был повод кольнуть начальство. Более того, попытка государства как-то простимулировать прогресс раздражает российское образованное сословие, напоминая ему о его собственных корнях. Не случайно два самых ненавистных современной интеллигенцими исторических персонажа — Петр Великий и Михайло Ломоносов, то есть именно те люди, которым она, интеллигенция, более всего обязана своим бытием.
Но это — отдельная тема.
Пока москвичи и петербуржцы, к искреннему моему восхищению, не только выживали при 37-39 градусах (а москвичи и при смоге), но и что-то еще делали, на работы какие-то ходили — я с супругой и ребенком нежился в Крыму при температуре воды 29 градусов, а воздуха ненамного больше.
В селении Поповка близ Евпатории ныне на главной улице — сплошная торговля всем необходимым отдыхающему: фруктами, надувными крокодилами, крымским портвейном, металлическими херами, в ценнике именуемыми «вешалка для шляпы», телефонными карточками etc. В каждом втором доме — кафе. В каждом третьем — валютообменник. На неглавных улицах в каждом домохозяйстве «миниотель». По пляжу водят верблюдов для катания, обезьян и удавов для фотосъемки. А ведь, когда я впервые попал сюда четыре года назад с легкой руки И.В.Булатовского и в его замечательном обществе,здесь было дикое поле, степь бескрайняя! Обменять деньги и купить персиков ходили за километр.
Короче говоря, Крым превращается в Турцию. И скоро превратится окончательно, вернувшись в состояние 1783 года. Кто не верит: на пляже в Поповке уже появились настоящие немцы! Что они там делают — не знаю, но признак верный и неотвратимый.
И даже понятно, как это произойдет. Как я понимаю, возвращение в Крым татарского народа уже в основном состоялось (во всяком случае, фруктоторговое и рестораторское дело прочно в руках коренного населения, без всяких азербайджанцев и прочих иноземцев). Но ресурсы еще есть: в Узбекистане, далеко не процветающем, найдет достаточное количество узбеков, готовых ради переселения в Таврию выдать себя за потомков ссыльных крымотатар; а в Турции — до 6 миллионов потомков эмигрантов времен Екатерины II. Представим себе, что хотя бы еще 500-700 тысяч тюрок переселяется в Крым. Поскольку татары в Крыму — опора «оранжевых», можно допустить, что при очередной победе БЮТ на обеукраинских выборах киевские власти начнут поощрять иммиграцию. И вот — при первом же политическеом кризисе в стране отюрченный Крым объявляет независимость. Турция признает ее, как признала Северный Кипр. Россия и Украина молча соглашаются со status quo назло друг другу. России, может быть, удается под шумок выторговать Севастополь и дом-музей украинского поэта Чехова.
Что дальше?
Степное виноградарство умирает, конечно — но оно и так уже в упадке с горбачевских времен. Зато каких новых высот достигнет туриндустрия!
На всякий случай: это была шутка. А то тут, в ЖЖ, не все понимают.
Над пятицветным паровозом,
в морской упершимся тупик,
над мелких бестий хороводом
съедобных, хищных и тупых,
туда-сюда и никуда
(туда – где падает и пляшет
многоугольная вода,
где крошка-конь ракушки пашет,
и никуда – в просвет мгновенный
между ветрами, в паровой
короткий вдох и выдох пенный
Левиафана) зыбкий свой
бригады тихих монопланов
в закатный час ведут маршрут:
планируют, за ветви канув,
и сумерки телами трут –
над плоским зайцем деревянным,
качелью, брусьями, песком,
над резким и непостоянным
жужжаньем в тупике морском,
на вест и норд, восток и юг
летят – и улетели вдруг.
Жаль, конечно, что не два близнеца подряд, выразительно было бы…
Однако же: не родичи ли литовские графы Коморовские русско-австрийским графам Комаровским, славным, разумеется, в первую очередь гарпиями посередине пруда?
Как известно, в русской истории очень часто мифологемы основываются на фактах сомнительных («потемкинские деревни») или неточных («провокатор Гапон»). Так вот: как там все на самом деле было с Симеоном Бекбулатовичем?
Был он венчан на царство или только на Великое княжение?
Именовался он в документах 1575-1576 царем или великим князем?
Есть ли аутентичные документы XVI века, где он именуется «царем»? Я таких не знаю.
Это не праздный вопрос. Дело в том, что внешнеполитические акты 1575-1576 годов составлялись, сколько я помню, по-прежнему от имени «царя Ивана Васильевича». Если Симеон не именовался царем, получалось, что есть
1) Великий князь Симеон,для внутреннего употребления
2) Князь Московский Иван, который в то же время и царь (вслух в Московском государстве об этом не говорят, но все помнят).
В то же время как будто в текстах Смутного времени старик Симеон фигурирует уже как «царь» и — вроде бы — рассматривается в этот период как реальный претендент на престол.
Знает что ли об этом, например, любезный френд Усыскин, весьма сведущий в этом периоде отечественной истории?
КАМЕРА ХРАНЕНИЯ — non pars sed totum
ИЗВЕЩЕНИЕ НОВОЙ КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ
ОБНОВЛЕНИЕ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ от 20 июня 2010 г.
СТИХИ
Игорь Булатовский: «О деревьях, птицах и камнях»
Татьяна Чернышева: Пять стихотворений
Валерий Шубинский: Стихи 2009-10 гг.
О СТИХАХ
О пчелах с любовью, или Жужжание в темноте: Оксана Шеина о Дмитрии Заксе
О чистом сосредоточении: Мария Игнатьева о Михаиле Айзенберге
Мир «без-«: Анастасия Бабичева об Александре Миронове
Дорогая простота: Валерий Шубинский о Вадиме Месяце
ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ РУССКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ:
Виктор Лазаревич Поляков (1881 — 1906). МАТЕРИ. Предложено В. И. Шубинским
Сетевые издания «Новой Камеры хранения»
АЛЬМАНАХ НКХ (редактор-составитель К. Я. Иванов-Поворозник)
Выпуск 32:
стихи Григория Стариковского (Нью-Йорк), Алексея Порвина (Петербург), Игоря Булатовского (Петербург), Александра Месропяна (хутор Веселый Ростовской обл.) и Валерия Шубинского (Петербург)
НЕКОТОРОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗГОВОРОВ
(редактор-составитель О. Б. Мартынова)
Выпуск 4:
Игорь Булатовский: «Вúдение видéния» (об Авроме Суцкевере)
Татьяна Чернышева: «Чем все кораллы, и цветы, и песни…» (О новонайденных переводах Э. Л. Линецкой; первая публикация восьми сонетов Шекспира и одного стихотворения Кристины Россетти)
Ольга Мартынова: Об Эльге Львовне
Валерий Шубинский: «Во мне конец/во мне начало» (об Иосифе Бродском как завершителе/начинателе)
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2010/6/sh18.html
Для меня совершенно очевидно, что в 1970-1980-е годы в России (или недавними эмигрантами из России) создавались великие произведения искусства. Прежде всего они создавались в андеграунде. Иосиф Бродский, Елена Шварц, Саша Соколов и проч. в литературе. Михаил Шварцман, и, скажем, Александр Арефьев в живописи. Уствольская, или Шнитке, или Эдисон Денисов в музыке. Об отдельных именах можно спорить, но о какой эстетической зоне идет речь, в общем, ясно. И здесь, в области непринятого социумом «высокого искусства для немногих», эпоха вполне «конкурентоспособна».
С другой стороны, существовало народное, массовое искусство. Здесь мне тоже если не все, то очень многое нравится: сериалы вроде «Семнадцати мгновений весны» или «Места встречи», самые непритязательные песни Высоцкого («У нее, у нее на окошке герань…»), комедии Гайдая (особенно «Брильянтовая рука»). А также фольклор, граффити и проч., смыкающиеся в стихах Олег Григорьева, или совсем раннего Горбовского, или Игоря Холина с высокой культурой через голову культуры среднеинтеллигентской.
Вот именно с ней — с культурой для средних слоев интеллигенции — проблем больше всего. Окуджава, братья Стругацкие, Эльдар Рязанов, «Девять дней одного года», «Доживем до понедельника», даже Давид Самойлов или Юрий Казаков (при всех охотно признаваемых достоинствах) — все это в большей или меньшей степени раздражает. Что именно раздражает? «Роскошь полузнаний» в сочетании со страстной гордостью этими полузнаниями; социальное чванство в сочетании с тайным комплексом неполноценности; провинциальная претенциозноть; и — везде и всегда — неизменный кукиш в кармане… В диссидентской словесности кукиш из кармана вынимается, но это получается еще хуже: если у человека рука в кармане, всегда есть крошечная надежда, что там бриллиант раджи, даже если ты почти точно знаешь, что там кукиш (на этом построен художественный эффект Юрия Трифонова). А если кукиш вынут и предъявлен — увы!
Что же, несмотря на это, из «средней» (не совсем элитарной, но и не народной) советской/антисоветской культуры 1960-1980-х для меня остается? Вампилов, несомненнно. Искандер. Битов с оговорками (в том числе касающимися его принадлежности именно к этой зоне). Может быть, Довлатов, но не уверен. «Комиссар» Аскольдова. Как ни странно, у Тарковского-режиссера, несмотря на гениальные стихи его отца, остается, пожалуй, только «Зеркало». И как минимум столько же — как минимум один фильм («Неоконченная пьеса…»)остается от Никиты Сергеевича Михалкова. Это стоит помнить сейчас, после всех его пакостей и неудач.