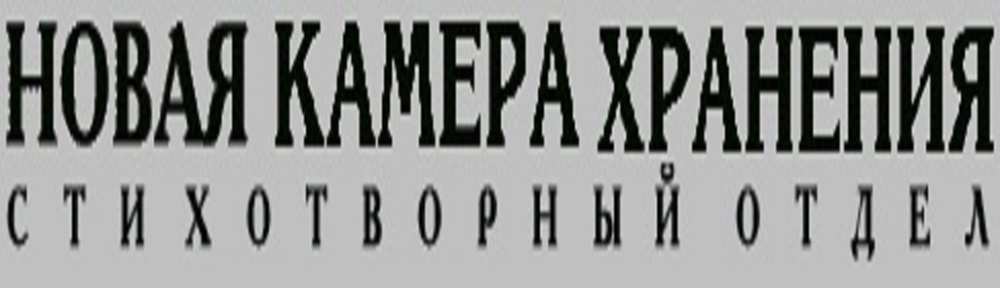Недавно Олег Юрьев - несколько для меня неожиданно - писал про Александра Твардовского Теперь - еще неожиданней - пишу я.
Побудило меня следующее: мелькнувшее в одном из мемуаров упоминание о том, как Хармс в Детгизе в конце 30-х цитировал "Страну Муравию". Хармс - даже поздний,впавший в неоклассицизм - и "Страна Муравия"!
Я этой поэмы - кроме небольшого отрывка - не читал. Решил прочитать.
Ну, конечно, сюжет пропагандистский, но страшно двусмысленный, тем более двусмысленный, что Твардовский, сын раскулаченных, порвавший с сосланной семьей (но в 1936, когда режим в отношении спецпереселенцев смягчился, вывезший стариков-родителей из Сибири к себе в Москву), лучше, чем, скажем Заболоцкий или Гор,знал, что происходит на самом деле, и врал более сознательно и потому непоследовательно.
Но при том - какими хорошими стихами сплошь написано!
Далёко стихнуло село,
И кнут остыл в руке,
И синевой заволокло,
Замглилось вдалеке.
И раскидало конский хвост
Внезапным ветерком,
И глухо, как огромный мост,
Простукал где-то гром
А это жалуется кулачина, обвиненный, видимо, в недоимках:
А кто платил,
Когда я не платил?
За каждый стог,
Что в поле метал,
За каждый рог,
Что в хлеву держал,
За каждый воз,
Что с поля привёз,
За собачий хвост,
За кошачий хвост,
За тень от избы,
За дым от трубы,
За свет и за мрак,
И за просто, и за так
Ни в "Василии Теркине", ни в "правильных" поздних поэмах ("По праву памяти") такого нет. Разве что кое-где в лирике.