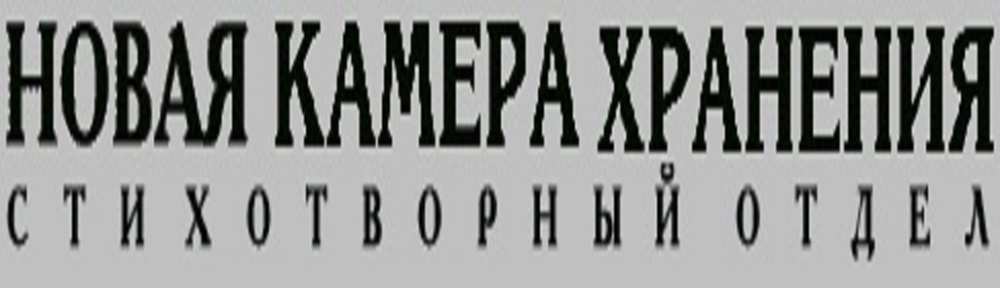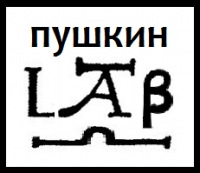http://www.nlobooks.ru/node/2248
Номер вообще необыкновенно интересный — но понятно, что в нем интереснее всего для меня: публикации Елены Шварц и Александра Миронова.
Публикации Шварц сенсационны: отроческий дневник ( дневники зрелых лет пока по завещанию автора к публикации запрещены) и отроческие же стихи (1962-1965).
Сначала о стихах. Так получилось, что я их не знал (кроме одной знаменитой строчки про море, которое пересолили). Честно говоря, ожидал добротной — в духе образцов той эпохи — юношеской лирики, конечно, очень высокого технического уровня. Потому ожидал именно этого, что не раз слышал, как отроческие стихи Шварц хвалили люди, вообще ее поэзии не понимающие и не принимающие. Я, например, помню, как на том знаменитом вечере в 1985 году, где автор поэм «Сифилиада» и «Гонориада» стал защищать от Лены блокадных детей, а от Кривулина — победный салют, выходили какие-то трепетные идиотки средних лет и высказывались в том духе, что, мол, Шварц не оправдала надежд, возлагавшихся на нее в двенадцать лет.
Но вот эти стихи напечатаны, и оказывается, что все ровным счетом наоборот. С первых шагов, первой строки — Елена Шварц, несомненная, узнаваемая.
Высокий и пустой собор.
И поп размахивает кадилом.
Я сама превращаюсь в церковь,
я вся до краев наполнена дымом.
—
У меня бог есть,
у вас — нету.
Солнце упадет,
всегда будет лето.
—
Выла свеча, как вдова,
воем-потопом в себя.
—
О ангелы, вы хилы.
О ангелы, вы подхалимы.
А дьявол говорит трубой,
а дьявол говорит со мной,
и по следам его копыт
луна влюбленная летит.
Это я цитирую каждое стихотворение — подряд, и то же самое дальше.
Здесь и шварцевская интонация, и характерное строение образа, и круг тем (названия одни чего стоят: «Юродивый», «Сад», «Последнее наводнение»), даже знаменитый шварцевский стих, полиметрическая силлабо-тоника, уже начинает кристаллизовываться — не хватает только, пожалуй, жесткого рационального начала, позволяющего видениям обретать внутреннюю логичность, а образам выстраиваться в сложные «деревья». Юношеская элегичность еще не разложилась, не распалась до конца на лед и пламя. Поэтому эти стихи могли быть «трогательны», особенно в сочетании с личностью автора (красивая миниатюрная девочка — можно представить себе). Новаторская поэтика сходила еще за обаятельное неумение.
Поразительно и другое. Зрелая поэтика Шварц обладает очень четкими и явственными корнями, имеет понятных (хотя и очень нетривиально между собой сочетающихся) предшественников (от Маяковского до Кузмина, от Рембо до Гоцци). Но похоже, что она была не равнодействующим влияний: в основе своей она сложилась до них. Поэт сам нашел себе учителей и предков, точнее пестунов. Был ли еще путь, начинавшийся так?
Во всяком случае, при чтении этих стихов стыдно и вспоминать, например, «Вечерний альбом». Насколько там — не Цветаева и на насколько здесь — Шварц!.
О дневнике — о так, сказать, социокультурной стороне дела, «о настоящем «антропологическом чуде» — превращении обычной советской школьницы, пионерки, собирающей посвященные В.И. Ленину открытки, мечтающей о команде «красных следопытов» и о Зое Космодемьянской, в поэта-мистика и проницательнейшего читателя мировой классики», и о том, какие внешние обстоятельства могли способствовать этому чуду, хорошо и тонко сказал во вступительном слове Александр Скидан. Добавить можно только одно: преображение начинается с языка. Вот еще вроде бы обычная советская школьница, а уже язык шварцевский, фраза шварцевская, с какими-то удивительно талантливыми местами («Я кричала, как татарка, у которой умер муж» — это укол ей делают, кажется) — и это перестраивает под себя весь мир личности.
В каком-то смысле этот дневник, вероятно, интереснейший из всех, которые Е.А. вела на протяжении жизни. Тут стихи еще не стали вытягивать в себя из личности самое главное, человек еще целен и потому особенно видны его масштабы.
Рядом два прекрасных эссе Александра Миронова, одно — посвященное Шварц. Он пишет, что они были знакомы, когда он написал «Психею-сфинкс». Лена говорила мне обратное, но это не так уж важно. Это одно из лучших стихотворений Миронова, но Шварц в нем нет, это автопортрет.
Стихи Миронова последнего десятилетия, почему-то не вошедшие в предсмертную книгу — все хорошие, насколько вообще это слово применимо к Миронову нулевых: прекрасно-уродливая пляска языка, загробно-злобного и свирепо-живого.
В номере много других материалов разной степени интересности (наверное, стоит отдельно написать о статье Рейтблата про Пушкина и Булгарина), но для меня все-таки очень досадно, что он открывается «социальной поэзией» Насти Денисовой и Романа Осминкина. Дело даже не в том, что это плохие стихи — допустим, кому-то они нравятся. Но даже чисто антропологически (раз уж мы об этом) они абсолютно несовместимы со Шварц и Мироновым. По крайней мере, мне так кажется.