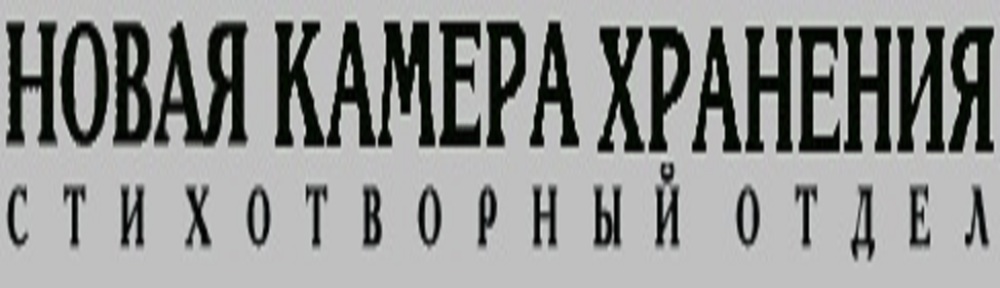Капли капают на паклю,
ветер тянет за рукав:
«Папа, папа! Мы иссякли,
нету больше божьих крав —
полететь на это небо,
принести нам три пудá
черного от горя хлеба
или белого стыда.
Мы с осоки на солому
скоро, папа, перейдем,
несъедому, но едому
даже если под дождем,
даже если втихомолку,
даже если навсегда…
Папа, папа! Всё без тóлку!
Но не бестолку ведь. Да?»
Архив рубрики: Без рубрики
ВСЕ, КТО
День говорит: «Огонь!» —
и сразу в глазах темно,
а прислони козырьком ладонь —
увидишь бородино
неба. Сколько же в глаза
выпалено облаков,
этого за глаза
хватит на полк полков!
Хватит на тьму, на сонм
ангельских слав и сил,
хватит на вечный сон
всех, кто не закосил,
всех, кого лейтенант,
местоблеститель дня
бросил на тот редант
вместо того огня.
UPUPA
Ни сну, ни ветру, ни удоду
не говори об этом вслух,
пока прекрасную уроду
объемлет за талию дух,
пока размеренно и глупо
из ее глубокого пупá
кричит упýпа — упа-упа! —
что жизнь глуха, а смерть слепа.
* * *
ветерок стоит на ушах
пяточками бóсыми
в голубых и белых вещах
небо идет
по зеленодушной траве
с белыми зачесами
и плывущей в ней голове
задом наперед
этот пароходик пустой
с голубой каемочкой
выдохнул дымок негустой
и поплыл скорей
имени его не видать
за душистой кромочкой
что-нибудь речное
видать
орфей
* * *
…уже не говоря об этом,
не говоря уже о том,
что наговóрено об этом
и наговорено о том,
что наговорено об этом,
не говоря уже о том,
что не говóрено об этом
и не говорено о том…
АРИЯ
П.
тень выходит на дорогу
и ползет по часовой
всё не в ногу всё не в ногу
с окружающей травой
тень идет как часовой
как минутный как секундный
мимо ветра и куста
несменяемый и нудный
и считающий до ста
всё считающий до ста
но сбивающийся где-то
на шестидесяти одном
будто дальше чисел нету
будто дальше днем с огнем
будто снова всё в одном
будто дальше только дыры
только дыры ты-ры-ры
только дыры тыры-пыры
вылезают из норы
или это просто ры
говорит его собаки
риторическая тень
избегающая драки
в этот жаркий летний день
тень в тени поет тень-тень
СЪЕЛ СОБАКУ
1. Летающую
2. Имени В. В. Розанова
3. Со стилем
Сравнение (здесь) — форма движения взгляда. Тряского, дробного, ускоренного движения мимо. Не позволяющего разглядеть, но заставляющего увидеть. Так железная дорога создала импрессионизм — до такой степени внешне подчиненное ви́дение, что оно уже — видéние. Видéние, преследующее даже тогда (а может быть, настойчивее всего именно тогда), когда взгляд остановился — как внутренняя, творящая форма его, взгляда, инерции. Как сравнение, вернее — (со)подчинение. Потому что «чего с чем» уже равнозначно «чего — чему». Это подчинение словесной возможности внеположному образу (и наоборот?). Подчинение, результат которого — слово-образование. Именно тот волшебный способ исторического соосуществления, пресуществления языка и мира (в том числе — мира, как суммы языков), который превращает петрова внука — гатчинский бук (Buche) в бухого «голштинца», и вот он уже рвет на себе тельник, да так яростно, что оставляет на плече твоего плаща маленькую стигму — свой треугольный орешек. Проводник этого пресуществления, его неуловимое осмотическое волшебство — ирония (притворство, пре-творство), ирония, трагикомическое пространство которой шире «ланских равнин»: от дворового ленинградского каламбура «тополь-дворянин» и чувственно-утешной сценки в саду (чтобы не сказать доме) свиданий fin de siècle («барыга-дуб», устало уснувший «на плечике у сдутой липы») до «кромешной зари», зрительного синестезического послевкусия «чернореченской черешни», втверженного ее соком в губы и вытверженного губами в ноябрьский ветер, единственный источник и ускоритель рассеянного (и поэтому безгрешного) северного света над «каменно островским проспектом», света, в котором даже части слова не сразу узнают друг друга. Если это не романтическая ирония, то ирония какого-нибудь маленького длиннокудрого романтика, видевшего «море зла, мой друг» и плывущего по Северному морю «пока-еще-домой» из печально-радостной послевоенной Европы (Европа всегда либо до-, либо послевоенная) на пакетботе «Альбион» навстречу своему тридцатипятилетнему комнатному безумию — до последней, карнавальной, встречи Кесаря и Косаря. Плывущего, пока другой романтик, уже коротко стриженный, девятый год (сто девяносто шестой в «прошло-будущем») сидит в Тюбингене над Неккаром, «еще-пока-не-дóма», в тавтологической комнате, принадлежащей начитанному столяру по фамилии Zimmer, и видит перенесенный вниз по реке, как звук (даром что «звучащий»!), гейдельбергский мост, а рядом с мостом, сияющим в предзимнем тумане стеклянными куколками («кристаллидами») фонарей, — себя, швабскую безотцовщину со шваброй, пахнущей шампунем. И еще он видит, как его видишь ты, идущий по мóсту, по мостý, от «о» до «у», идущий всю жизнь, всю жизнь — домой, пока не сточится каблук; идущий в искрах первого снега, что летят из надоблачной валгаллы, где взводный пекарь эйнхериев печет съедобные подотчетные звезды…
ЛАСТОЧКИ НАКОНЕЦ. Часть первая, главы I-III
Прошлое — птицам,
Будущее — стрекозам.
Елена Шварц
I.
Все облака перепутаны — где какое
быть должно, чтобы рассеять свет,
чтобы оставить листьев глаза в покое,
глаз близорукой листве тихо напомнить — «нет»…
Пусть гряды городят, пусть разбираются сами,
где чье место, пусть растет огород,
пусть ползут по дождю дымчатыми усами,
что подрежет один ласточкин разворот;
пусть распустятся все, знающие: где тонко —
там горошек цветет, там цветут огурцы;
пусть бегут между гряд, ставших эфирной пленкой,
ласточки наконец, отдавая дождя концы.
Вот и всё дальше дождь, и следом — его светлый,
но разомкнутый свет, прорéженный им как пыль,
пахнущий мокрой пылью, распускающий петли
зрения через одну, в которую вдет ковыль
воздуха, смазанного каждым своим движеньем
по самому себе, по шарикам водяным,
идущего по себе мелким сукровным жженьем
и без огня преходящего в дым,
щиплющий горло… Но где теперь эти слёзы!
На каждом цветочном дне, в каждом углу травы,
синие до слепоты, до дна дождевой желёзы.
Вот и всё, дальше дождь — только рифма листвы,
той, что ближе всего (всего точнее — осина,
костяшками по костяшкам застукивающая себя врасплёск),
той, что ближе всегда, чья дыхательная остина
держит сердце, идущее в рост,
перенимающее это слепое бегство
от корневых основ до корней волос
и обратно, как судорожное соседство
каждого с каждым — в голос, в лицо, вразнос, —
соседство с детскими голосами
птиц, выкармливающих своих старичков
под водяными солнечными часами
мясом откормленных червячков,
откормленных сладкой землей, землицей,
вечными обещаниями ее —
всем, что пóтом ее затянется, потóм утеснится
в новое черное тело свое,
всем, что пахнет сейчас, как только что срезано, сжато,
сорвано с веток, срублено, сметено,
пахнет раем — запахом без возврата;
так, наверное, там и должно
пахнуть (как здесь), как будто идут от края
поля зрительного огромные огненные косцы,
но не двигаются, в каждом взмахе сгорая
до горького пепла, до сладкой пыльцы,
до тишины, но не той, что ставит на место
слух, вправляя вывихнутый его сустав,
а той, что для слуха находит место
в самой себе, составом его став, —
звуком, целым звуком, но не звучащим,
а зовущим всё, что ни есть вокруг,
называющим всё по имени в этой чаще,
чтоб в ответ услышать звучащий звук,
но не зовущий, а проходящий мимо,
за деревьями, в сторону той реки,
где говорят друг с другом неостановимо
только глухие камушки и нéмые пузырьки,
в сторону той реки — немедленной ровной прозы,
что видит только деревья и облака,
которую видят лишь ласточки и стрекозы,
то низко-низко, то свысока…
II.
Труден день по имени, выговоришь едва
на сломанном языке, всеми его костями,
сросшимися неправильно, сросшимися в слова —
зубчатыми, зазубренными, стиснутыми частями.
Откуда, с какого неба, с какой такой высоты
он упал в этот день, чиркнув пораньше спичкой,
и засветив огонь, и не помяв цветы,
и рассыпался в прах, в прах и пух перекличкой
ближнего с дальним — в порх, в перепарх врасплох
светом застигнутых птиц, как бы тихо ни спали,
как бы ни слушали тьму со всех ее четырех
сторон, пахнущих ветром с дальним привкусом стали,
с призвуком блеска, защéмленного пока
между верхним веком и нижним веком,
там, где спекаются в корку новые облака
и звуковая тоска уже скребет по сусекам,
чтоб хоть с примесью праха, хоть с песком на зубах,
а все равно набрать этой серой мучицы,
этой серенькой мýки — только, только за страх,
подпирающий горло там, где сошлись ключицы,
где сошелся клином в каждой линзе травы
весь переломленный свет переломанной речи,
что срастается медленно в сером тесте молвы,
на каждом углу паденья идущей в тугие печи
воздуха, узкого воздуха, молвы, набирающей дрожь,
как на дрожжах — на пару, на перьевом напоре,
каждой пóре земли, ложащейся сплошь под нож
в горькой радости и сладчайшем горе —
обескроветь, избыться, но кровью своей намыть
солнечные хрящи в темном лесу обломков,
чтобы опять ввилáсь голосовая нить,
чтобы хоть вкривь, хоть вкось, но на роду потомков —
на этой кашке несладкой, этой траве-дворе —
было написано светом от края листа до края
всё, что прочитано светом в утреннем букваре,
открытом на «д», на дворе, в каждой капле воды возгорая,
в каждой капле огня угасая выпуклыми от росы
буквами — для слеповатых глаз, отвыкших от этого света,
мимо которых плывут медленные часы,
выгибаясь, вгибаясь и забываясь где-то
за углом отраженья, где качается ветка воды,
полной сирени, за которой не ви́дны
полные всякого цвета воздуховы́е сады,
трубящие обо всем, чему сегодня повинны:
жару и трепету, и небольшим дождям,
и птичьему голоду, и слепоте куриной,
и львиному зеву, и грибничным дрожжам,
и воздуху, что саднит пропотевшей землей и глиной,
и ветру, ветру, конечно, срывающему с дерев
блеск — со спинок листвы, весь, до последней блёстки,
ветру, сменяющему на милость свой нисходящий гнев,
а милость — на благодать, у сáмой земли, у горстки
тополиного пуха, у кочки, у курочек-петушков,
у мать-и-мачехи, иван-чая, иван-да-марьи,
места-и-времени, у теней облаков,
у облаков теней, у пыли, у тонкой арии
пыли, поющей на простом языке
о рассыпанном свете, смешанном со следами
того, кто проходит по ней, вертя стебелек в руке,
на языке вертя по складам, складами
горечь и сладость, сухость и влагу, «нет»
и «да», «да» и «нет», слова и
не-слова, и вопрос, и на него — ответ,
и считает ворон, считает ворон — до стаи…
III.
Между глазом и светом не воздух, а то,
что прежде воздуха, — вода, сплошная вода,
и в ней всё ходит, ходит крупное решето
отсюда — туда, оттуда — сюда
и оттуда вычерпывает всего — Ничего,
а отсюда — всего ничего — день за днем,
и свиваются в клетках синеватых его
жгутики дымной воды, пахнущей вечным огнем,
а по краю зренья — красная полоса,
этот самый огонь, дальний степной пожар,
вечно идущий на детские голоса
в рослой траве заблудившихся гласных пар,
что потеряли друг друга как брат и сестра
в темном саду соответствий, на светлом дворе,
в трех соседних травинках — завтра, сегодня, вчера —
и друг друга зовут: «А! У! О! И! Ы! Э!»
Ау, боги! Вы где? В этом ветре, поднявшемся вдруг,
вас не видно, ау, милый брат, сестра золотая,
в этом ветре вкруг вас каждый с вами согласный звук
будет ýже себя и шире себя, тая́ вас и тáя
в вас, ваших зернах, что всюду взошли, трубя
во все орудья свои, во весь дух, поддавая жáру
небесам, прожигающим облака, чтоб увидеть себя
в каждом звуке — тотчáс к облакам возносимому пару
на ваших зернах дыханья, на столбиках духовых —
прямо в раскрытые рты сидящих по краю прожога
многоочитых стрекоз, в страшных масках своих
каждый звук подносящих к лицу Бесконечного Слога,
что звучит возле глаз большой соленой водой,
подступает к роговице маленькой волной соленой,
надувает веки маленькой большой бедой,
машет в глубине веточкой зеленой.
Веточкой чего? И не разглядишь,
только кажется, что — погасшей сирени,
перелившейся в воду, оставившей в ней лишь
свои тяжелые, душные тени,
оставившей лишь место, где она была,
оставившей лишь время, где она дышала,
где она цвела — крácным красна, бéлым бела —
влажным вращеньем своего многоосного шара
ночью безосной, вертящейся во сне
как ребенок, то одну, то другую влажную щеку
подставляя под звезды, которые веют в окне,
чуть шевеля на темном дворе осоку,
чуть шевеля сухие губы ее,
еще не остывшие, не выбеленные росою,
чуть говоря ими первое слово, ничье —
короткой дыхательной полосою;
одна кивнет и другая кивнет
и распрямится, и распрямится,
будто идут в недальний земной поход,
на каждом шагу в руки роняя лица,
будто идут прочь со своего двора
и несут легкое теперь совсем уже слово,
теперь совсем уже — слово, которому прочь пора,
плыть пора, до утра, по волне — полове, половинке пустого
зерна, легкой лодочке, слабой ладони, туда,
где не воздух, а то, что между глазом и светом,
что прежде воздуха — вода, большая вода,
плыть и плыть, за этим простым ответом:
НАСЕКОМЫЕ СТИХИ
Ничего тебе — ни щупалец, ни жвалец,
ни щетинок, ни спирали хоботка,
чтобы только не сорваться с этих скользких покрывалец,
не сорваться и добраться до цветка,
чтобы только по зеркальному исподу,
выгибающему время на дуге,
подтянуться и запомнить округлившуюся воду
на развернутом горячем хоботке.
ГРЕГОР ЛАШЕН
В дрезденском журнале «Оstragehege» (#66) эссе о Грегоре Лашене
в замечательном переводе Даниила Юрьева.
Cетевой версии перевода нет. Оригинал здесь.
Здесь и здесь – стихи Грегора Лашена.